В жизнь Китти прочно вошла радость — потому что она любила и была любима, потому что ее дочь отличалась крепким здоровьем, а сын, растущий у нее в животе, непрестанно бил ножкой. Китти сожалела только об отъезде Стивена. Впрочем, без Ричарда ей пришлось бы гораздо тяжелее. Расставания и встречи — обычное дело. Все в мире меняется, все идет своим чередом, и тайное становится явным, лишь когда подступишь к нему вплотную. Стивен уплывает в Англию на корабле, носящем ее имя, а это много значит. «Китти» убережет его от беды, рассекая волны, словно нож — масло.
— Ты оставишь нам Тобиаса? — спросила Китти.
Темные брови высоко взлетели, ярко-синие глаза блеснули.
— Расстаться с Тобиасом? Ни за что! Он морской кот, он поплывет со мной куда угодно. Рядом со мной он чувствует себя как дома.
— А ты навестишь майора Росса?
— Непременно.
Ричард задал мучающий его вопрос, провожая Стивена до дороги на Куинсборо.
— Ты не окажешь мне одну любезность, Стивен?
— Какую угодно. Ты хочешь, чтобы я навестил твоего отца? Или кузена Джеймса-аптекаря?
— Только если у тебя хватит времени. Я хочу попросить тебя отвезти письмо Джимми Тислтуэйту в Лондон, на Уимпоул-стрит, и передать ему в собственные руки. Я знаю, что больше никогда не увижусь с ним, поэтому мне будет приятно, если он получит письмо из рук моего самого близкого друга.
— Так я и сделаю. — Возле дороги Стивен стащил парик и с печалью окинул Ричарда взглядом. — Чтобы написать письмо, у тебя в запасе есть целая неделя. Я уплываю на «Китти», если не передумаю.
С появлением на Норфолке преподобного мистера Бейна посещение воскресной службы перестало считаться обязательным. Но вице-губернатор Кинг настоятельно советовал всем каторжникам посещать каждую службу, а поскольку в церковь являлись и свободные колонисты, там царила страшная давка. Каторжники нуждались в покровительстве Бога больше, чем свободные островитяне.
Зная, что, если он пропустит службу, его все равно никто не хватится, Ричард предупредил Китти, что в ночь с субботы на воскресенье будет писать мистеру Тислтуэйту, а утром поспит подольше. Радуясь тому, что Ричард отдохнет несколько лишних часов, — все-таки писать письмо легче, чем пилить бревна, — Китти отправилась спать.
Ричард осторожно снял с полки лампу, купленную вместе с чайным сервизом, но стоившую гораздо дороже, потому что к ней прилагался пятидесятигаллонный бочонок ворвани. Ричард редко зажигал ее — от усталости он почти перестал читать по вечерам, но обладая лампой, сознавал, что рано или поздно перечитает все книги, присланные Джимми Тислтуэйтом, хотя это единственное развлечение каждый раз вызывало у него такое чувство, будто он предал своих близких. Он уже понял, что Китти никогда не научится грамоте, у нее есть дела поважнее. Поскольку единственным источником знаний для нее остается он, Ричард, он просто обязан читать.
Придвинув поближе лампу, отбрасывающую на бумагу пятно теплого золотистого света, Ричард окунул стальное перо в чернильницу и начал писать, почти не обдумывая фразы, поскольку они давным-давно сложились у него в голове.
«Джимми, это письмо меня убедил написать лучший человек из всех, кого я знаю, и теперь, расставаясь с ним, я утешаюсь лишь одной мыслью — что ты познакомишься с ним и полюбишь его. Так вышло, что мы с ним жили бок о бок с тех пор, как „Александер“ покинул устье Темзы, мы вместе перебирались с корабля на корабль, из одной колонии в другую. Он свободный человек, а я каторжник, и все-таки мы друзья. Не будь у меня Китти и детей, разлука с ним стала бы для меня сокрушительным ударом.
На этих страницах ты прочтешь то, чего не узнал из письма, которое я отправил, получив твою посылку. Первое письмо было послано с почтой, его могли вскрыть чужие руки, увидеть чужие глаза. Странно, что наши письма вообще доходят до адресатов, но ответы, которые мы получали с тысяча семьсот девяносто второго года (а также письма, привезенные в этом году „Беллоной“ и „Китти“), — свидетельство тому, что почтальоны, увозящие их в Англию, сочувствуют нам. Однако некоторые из нас ни разу не получали вестей из страны, которую почти все мы по-прежнему называем родиной. Не знаю, случайность это или злой умысел. О судьбе этого письма позаботится Стивен. В нем я могу высказать все, что пожелаю, зная, что он молча дождется, когда ты прочтешь его, не пытаясь вмешаться.
В этом, тысяча семьсот девяносто третьем году мне минуло сорок пять лет. Как я теперь выгляжу, тебе расскажет Стивен — он знает это лучше, чем я сам, ведь на острове Норфолк нет зеркал. Мне известно лишь то, что я сумел сохранить здоровье и даже окреп, поэтому теперь мне по плечу любая работа, в том числе и та, которая была не под силу в молодости.
Я пишу это письмо ночью, слыша только шорох ветра в ветвях могучих деревьев, ощущая запах смолы и свежесть дождя, который прошел несколько часов назад, увлажнив землю.
Я никогда не вернусь в Англию — больше я не считаю ее своим домом и даже мысленно не называю так. Мой дом здесь, на острове Норфолк, где я останусь навсегда. Дело в том, Джимми, что я не хочу иметь ничего общего со страной, которая отправила меня в Ботани-Бей на невольничьем судне. Страдания и лишения, которые я пережил за время плавания, продолжавшегося целый год, до сих пор преследуют меня в ночных кошмарах.
Конечно, и мне выпадали радостные минуты, но отнюдь не по милости тех, кто распоряжался нами, — алчных подрядчиков, равнодушных писцов, налитых портвейном капитанов и адмиралов. Нам, каторжникам, первыми увезенным в Ботани-Бей, еще повезло — по сравнению с теми, кто последовал за нами: Стивен расскажет тебе, что он увидел на борту „Нептуна“, прибывшего в Порт-Джексон.
Первыми добравшись до Ботани-Бей, мы стали и самыми счастливыми, и самыми несчастными. Никто из нас не знал, за что взяться, даже отчаявшийся губернатор колонии Филлип. Его не снабдили ни планами, ни инструментами, ни материалами. Никто в Уайтхолле не позаботился о доставке грузов, подрядчики мошенничали без зазрения совести, доставляя на суда грубые ткани, тупые инструменты и другие необходимые, но ни на что не годные вещи. Представляю себе, что сказал бы Юлий Цезарь, увидев, в каких условиях нам пришлось существовать!
Но каким-то чудом мы выдержали первые пять лет этого непродуманного, неудачного опыта над живыми мужчинами и женщинами. Не знаю, как это получилось, мне известно только, что мы стали живыми свидетельствами человеческого упорства и решимости. Было бы неверным утверждать, что Англия предоставила нам еще один шанс. Мы не получили никакого шанса — ни первого, ни последнего. Скорее мы действовали так, как советовал нам внутренний голос. Одни из нас просто поклялись выжить и, выжив, заторопились на родину или только стремятся к этому. А другие решили начать все заново — с тем, что мы теперь имеем. Я отношусь ко вторым, таким, кто, будучи каторжником, упорно трудился, не доставлял хлопот властям, не подвергался наказаниям, не предавался порокам и старался быть полезным. Получив помилование или отбыв срок каторги, мы осели на своей земле и занялись непривычным делом — фермерством.
Как много потеряла Англия — ум, изобретательность, выносливость, упорство! Перечень ее потерь мог бы занять несколько страниц. А сколько еще хороших, работящих людей прозябает в каменных и плавучих тюрьмах? Что случилось с Англией, неужели она ослепла, если выбрасывает такое сокровище как никчемный мусор?
Справедливо будет заметить, что лишь немногие из нас имели представление о том, из какого мы сделаны теста. Сам я об этом даже не догадывался. Прежний тихий, терпеливый Ричард Морган, которого не привела в ярость даже потеря трех тысяч фунтов, умер. Он был бездеятельным, удовлетворенным, лишенным тщеславия и ничтожным. Он скорбел лишь о том, о чем скорбят все люди, — о потере близких. Ему были присущи самые распространенные человеческие пороки — потакание своим прихотям и поглощенность самим собой. У него были свои маленькие, ничем не примечательные радости и добродетели, такие же, как у многих других людей, — вера в Бога и свою страну.
Ричард Морган восстал из пучины боли и увидел, что чужая боль порой бывает острее собственной. Он ничего не принимает как должное, он говорит лишь тогда, когда это необходимо, он готов отдать жизнь за своих близких и свое имущество, он никому не доверяет и полагается на одного-единственного человека — на самого себя.
Джимми, наша трагедия заключается в том, что мы вывезли из Англии самое худшее, что в ней было, — хладнокровную надменность тех, кто правит и распоряжается нами, неписаные законы, по которым лучшими людьми считаются высокопоставленные и богатые, стигматы нищеты и низкого происхождения, смешную веру в то, что монарх и церковь никогда не ошибаются, презрение к незаконнорожденным.
Поэтому я боюсь, что на моих детей ляжет бремя и моих грехов, а не только их собственных. Но я надеюсь, они обретут то, чего никогда не добились бы мои бристольские потомки. Здесь им хватит пространства, чтобы расправить крылья, Джимми, хватит места, чтобы выйти в люди. О чем еще я могу молить Бога?
Я думал, письмо получится длинным, но теперь вижу, что уже сказал все, что хотел сказать. Береги себя, позаботься о Стивене, который увозит с собой мою любовь, и пиши. Корабли из Англии теперь прибывают сюда каждые шесть месяцев, на Норфолке запасаются пресной водой суда, плывущие в Нутка-Саунд и Отахейт. Если повезет, ты получишь следующее мое письмо прежде, чем я обзаведусь целым десятком малышей. Китти любит детей, а я слишком слаб, чтобы отталкивать ее, когда она льнет ко мне.
Благодаря милости Господа и людской доброте я проделал долгий и славный путь».
Ричард сложил лист вдвое, растопил сургуч и запечатал письмо, оттиснув на нем свою эмблему — инициалы P.M. в окружении цепей. Оставив письмо на столе, он задул лампу и ушел в спальню, к Китти.

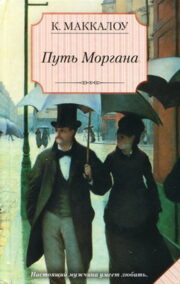
"Путь Моргана" отзывы
Отзывы читателей о книге "Путь Моргана". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Путь Моргана" друзьям в соцсетях.