– Может быть, вскоре, – говорит он и поворачивается к Гарри: – Но товарища своего вы не лишитесь, так что вам не будет одиноко, – произносит он, стараясь, чтобы это прозвучало радостно.
– Эдвард не поедет с матерью? – спрашиваю я. – Леди Куртене отпускают, а ее маленького сына оставляют под стражей?
Он смотрит мне в глаза и понимает, как и я, что под стражей держат Плантагенетов, а не изменников. Гертруда может идти, она урожденная Блоунт, дочь барона Маунтджоя. Но ее сын, Эдвард, должен остаться, потому что его имя – Куртене.
Обвинения нет, обвинения быть не может, он ребенок, он и дома-то никогда не покидал. Король просто собирает у себя сыновей Плантагенетов, как Рытик, подрывающий дом, как чудовище из сказки, поедающее детей, одного за другим.
Я думаю о маленьких Гарри и Эдварде, об их ясных живых глазах, о кудрявых каштановых волосах Гарри и о холодных стенах Тауэра, о долгих днях заключения; мне открывается новая стойкость и новая боль. Я смотрю на Уильяма Фитцуильяма и говорю ему:
– Как пожелает король.
– Вы не считаете это несправедливым? – удивленно спрашивает он, словно он мой друг и может просить о том, чтобы мальчика отпустили. – Не думаете, что должны высказаться? Подать прошение?
Я пожимаю плечами.
– Он король, – говорю я. – Он император, верховный глава церкви. Его суждение верно. Вы не думаете, что его суждение непогрешимо, милорд?
При этих словах он моргает, моргает, как его господин, крот, и сглатывает.
– Король не ошибается, – быстро говорит Уильям, словно я могу за ним шпионить.
– Конечно нет, – отзываюсь я.
Летом легче, хотя мне и не разрешают покидать камеру, Гарри и Эдвард могут выйти и гулять сколько угодно, лишь бы не покидали стены Тауэра. Они пытаются развлекаться, как всякие мальчишки, играют, борются, мечтают, даже ловят рыбу в темных глубинах возле водных ворот и плавают во рве. Моя служанка каждый день приходит в Тауэр и уходит из него, иногда она приносит мне что-нибудь вкусное, по сезону. Однажды она приносит горстку клубники, и, едва ощутив ее вкус, я возвращаюсь в сад Бишем Мэнор, на моем языке сок спелой ягоды, в спину мне светит солнце, и весь мир у моих ног.
– А еще у меня новости, – говорит служанка.
Я бросаю взгляд на дверь, за которой может пройти тюремщик.
– Осторожнее в речах, – напоминаю я.
– Это все знают, – говорит она. – Король собирается оставить свою новую жену, хотя она пробыла у нас в стране всего семь месяцев.
Мне на ум тотчас приходит моя принцесса, леди Мария, которая лишится еще одной мачехи и подруги.
– Оставить? – повторяю я, остерегаясь слов, гадая, не обвинят ли ее в чем-нибудь чудовищном и не убьют ли.
– Говорят, их брак так и не был завершен, – шепотом произносит моя служанка. – И ее будут звать сестрой короля и поселят в Ричмондском дворце.
Я осознаю, что непонимающе уставилась на служанку; но я не могу осмыслить мир, в котором король может назвать жену сестрой и отослать ее жить отдельно во дворце. Генриху что, вообще никто не дает советов? Никто не скажет ему, что истину создает не он, он не может сам ее сочинить? Нельзя сегодня звать женщину женой, а завтра – сестрой. Нельзя говорить, что его дочь не принцесса. Нельзя звать себя Папой. Кто наберется смелости и назовет то, что с каждым днем становится яснее: король не видит мир таким, какой он есть, его зрение обманчиво, король, пусть это и изменническая речь, – совсем сошел с ума.
На следующий день я смотрю из своего арочного окна на реку и вдруг вижу барку Говардов, быстро идущую вниз по течению; вижу, как она поворачивается, как умело выгребают весла, чтобы завести ее в док, пока со скрипом открываются водные ворота. Новый несчастный, взятый под стражу Томасом Говардом, думаю я, и с интересом смотрю на коренастую фигуру, которая выбирается из барки и дерется, как ломовой извозчик, схватившись с полудюжиной на берегу.
– Помогай ему Бог, – говорю я, когда он прорывается, как затравленный медведь, без надежды на освобождение.
Стражники готовы на него броситься, и он с ними сражается на ступенях, пока не скроется из вида за проемом моего окна; я прижимаюсь к камню и выглядываю из стреловидной арки.
Я любопытна, как заключенный в одиночке, но еще мне кажется, что я узнала человека, который набросился на своих тюремщиков. Я узнала его, едва он сошел с барки; его клерикальные черные одежды лучшего покроя, его широкие плечи и черную бархатную шляпу. Я изумленно смотрю вниз, прижавшись щекой к холодному камню, чтобы увидеть Томаса Кромвеля, которого арестовали, заключили под стражу и тащат, как бы он ни дрался, в тот самый Тауэр, куда он отправил столь многих.
Я отступаю от арки, добираюсь до кровати, падаю на колени и прячу лицо в ладони. Оказывается, я наконец-то плачу, между пальцев у меня струятся горячие слезы.
– Спасибо, Господи, – тихо плачу я. – Спасибо, Господи, что дал дожить до этого дня. Гарри и Эдвард спасены, мальчики спасены, ведь злой советник короля пал и нас всех освободят.
Томас Филипс, смотритель, скажет мне только, что Томас Кромвель, лишенный цепи канцлера и всей своей власти, арестован, что его держат в Тауэре и он молит о помиловании, как до него молили многие достойные люди. Он должен слышать, как слышу я, шум, с которым на Тауэрском холме возводят эшафот, и в такой же прекрасный солнечный день, какой стоял, когда вывели на казнь Джона Фишера или Томаса Мора, их враг, враг веры в Англии, идет по их стопам на смерть.
Я велю Гарри и его кузену Эдварду не подходить к окнам и не смотреть, как побежденный враг их семьи проходит под гулкой аркой ворот, по подъемному мосту и медленно поднимается по мощеной дорожке на Тауэрский холм; но мы слышим, как рокочут барабаны и как выкрикивает насмешки толпа. Я опускаюсь на колени перед распятием и думаю о своем сыне Монтегю, предсказавшем, что Кромвель, глухой к крику: «Пощады! Пощады! Пощады!», – однажды сам выкрикнет эти слова и не найдет себе пощады.
Я жду, что дверь в мою камеру распахнется и нас отпустят. Мы были заключены по Акту о лишении прав, внесенному Томасом Кромвелем; теперь он мертв, и нас точно отпустят.
Пока за нами никто не приходит; но, возможно, о нас забыли с новой женитьбой короля, – говорят, он обезумел от радости с новой невестой, еще одной девушкой из семьи Говардов, маленькой Китти Говард, которая годится ему во внучки и хороша собой, как все девочки Говардов. Я вспоминаю, как Джеффри сказал, что Говарды для короля все равно что заяц для гончей Талботов, а потом вспоминаю, что не надо думать о Джеффри.
Я жду, когда король вернется из медового месяца, переполненный благоволением жениха, и кто-нибудь напомнит ему о нас и о том, чтобы он подписал приказ о нашем освобождении. Потом я узнаю, что его счастье в одночасье закончилось, что он болен, что впал в отчаяние, как безумец, и затворился, как заключена я, в двух комнатках, сходя с ума от боли и мучаясь разбитыми надеждами, что он слишком утомлен и страдает, чтобы заниматься делами.
Все лето я жду, когда мне скажут, что король вышел из меланхолии, всю осень, а потом, когда снова начинает холодать, я думаю, что король, возможно, помилует и освободит нас в новом году, после Рождества, в честь праздника; но этого не происходит.
Король собирается повезти свою избранницу, которую зовет «розой без шипов», в большое путешествие на север, в поездку, на которую не отваживался раньше, показаться северянам и принять их извинения за Благодатное паломничество. Он остановится у тех, кто недавно построил себе дома из камня снесенных монастырей, поедет по землям, где до сих пор гремят в цепях на придорожных виселицах кости изменников. Он беспечно будет ходить среди людей, чья жизнь кончилась, когда разрушили их церковь, чья вера лишена дома, а сами они лишены надежды. Он облачит свое огромное жирное тело в линкольнский зеленый и прикинется Робином Гудом, а дитя, на котором женился, заставить танцевать в зеленом, как Деву Марианну.
Я все еще надеюсь. Я надеюсь, как надеялся когда-то мой умерший кузен Генри Куртене, что будут лучшие времена и мир станет повеселее. Возможно, король отпустит Гарри, Эдварда и меня до того, как отправится на север, в знак милосердия и прощения. Если он может простить Йорк, город Плантагенетов, открывший ворота паломникам, он точно может простить двух невинных мальчиков.
Я просыпаюсь в эти ясные утра на рассвете и слышу, как за моим окном поют птицы, и вижу, как медленно ползет по стене солнечный свет. Томас Филипс, смотритель, к моему удивлению, стучит в дверь и, когда я встаю и накидываю халат поверх ночной рубашки, входит; вид у него такой, словно ему нехорошо.
– Что случилось? – тут же встревожившись, спрашиваю я. – Мой внук заболел?
– Он здоров, здоров, – поспешно отвечает Томас.
– Эдвард?
– Он здоров.
– Тогда что случилось, мистер Филипс, отчего вы в таком смятении? Что такое?
– Мне горестно, – вот и все, что он может вымолвить.
Он отворачивается, качает головой и прочищает горло. Что-то так его печалит, что он едва может говорить.
– Мне горестно говорить вам, что вас казнят.
– Меня?
Этого не может быть. Казни Анны Болейн предшествовал суд, на котором пэров убедили, что она была ведьмой и прелюбодейкой. Знатную женщину, члена королевской семьи, нельзя казнить без обвинения и без суда.
– Да.
Я подхожу к низкому окну, которое выходит на лужайку, и выглядываю наружу.
– Быть этого не может, – говорю я. – Не может быть.

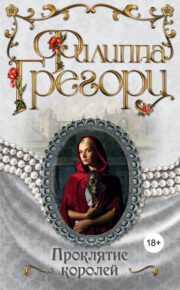
"Проклятие королей" отзывы
Отзывы читателей о книге "Проклятие королей". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Проклятие королей" друзьям в соцсетях.