— Почему он этого хочет? — допрашивала она.
— Ради тебя, — отвечал Тэкс. — Он говорит такие же бессмысленные вещи, как и ты иной раз. Он должен тебя мучить, утверждает он, должен хотя бы один раз провести тебя мимо красного камня. Тогда все будет хорошо. Ты это понимаешь?
Большими и круглыми стали ее глаза, глаза куклы. Она подумала и медленно покачала головой.
— Красный камень… Нет, я не знаю, почему он это так называет. Но, кажется, я знаю, что он имеет в виду.
Тэкс удивленно посмотрел на нее.
— Если ты это знаешь, почему же ты не сделаешь того, что он хочет? Если это не что-либо особенное, а так, глупая мелочь, которую он забрал себе в голову, вообразив, что от нее зависит спасение его души? Господи Иисусе! Сотни раз я делал вещи, которые мне совершенно не нравились, только из любви к тебе, Гвинни. Чем больше ты упорствуешь, тем более одержимым будет он… Так доставь ему удовольствие!
Она медленно сказала:
— Так? Ты так думаешь?.. Тогда я могла бы… с таким же успехом… выйти замуж и за тебя…
— Что? — крикнул он. — За меня?
Она подтвердила. Ее голос прозвучал печально, почти безутешно:
— Да, за тебя. Или за Феликса. Или за кого-угодно другого — увы!
Тэкс выронил свою трубку. Он задыхался:
— За меня? Или за Феликса? Так ты, значит, не хочешь выходить за него? Ты его больше не любишь?
— О, Тэкс, — воскликнула она, — как ты можешь задавать такие вопросы! Я люблю его, его, больше всего на свете. О, как я его люблю! Иначе я бы уехала завтра же утром, не так ли? Я, видишь ли, люблю его… и все же… все же…
Она сделала движение, точно хотела броситься в его объятия. Но она только взяла его руки, как бы прося у него защиты. Ни одна слеза не вытекла из ее глаз, но ее рот судорожно подергивался. Болезненно, с мукой вырвалось из ее губ:
— Увы!
Тэкс Дэргем был бесконечно рад, когда наконец вышел из ее комнаты. Он бросил боязливый взгляд на дверь Эндриса — только бы теперь этот не поймал его! Быстро сбежал с лестницы, ворвался к своему другу Феликсу и бросился в кресло.
— Уф…фф! — простонал он. — Уф…фф! Закрой двери… Ни малейшего звука, если кто-нибудь постучит, слышишь! С меня довольно!
Прайндль сделал, как тот сказал.
— Что с тобой? — спросил он.
— Они сошли с ума, — зашептал Тэкс, — они оба совершенно сумасшедшие!
И он рассказал своему другу, что пережил в последние часы. Но он так все перепутал, что Феликс едва ли что-то понял из его рассказа.
— Зачем нам об этом думать? — спросил он сухо. — Это дело психологов.
— И психологи должны будут повеситься! — сплюнул Тэкс.
Феликс засмеялся.
— Я могу дать тебе только один совет: не суйся в эти дела.
— Я и не хочу! — воскликнул Тэкс. — Разве я им навязываюсь? Пойдем… Я счастлив, когда мы сидим у наших девочек.
«Ах, наши парижские девочки!» — подумал Феликс.
Он подумал это на изысканнейшем арго, выученном в «Курящей Собаке».
Они сбежали по задней лестнице, чтобы никого не встретить.
Эндрис кусал себе губы, шагая взад и вперед по комнате. «Я должен это сделать, — бормотал он, — должен это сделать!» Тэкс был прав. Чем больше упорствует Гвинни, тем одержимее становится он. Он уже не может отделаться от этой мысли. «Что за жалкая забота, — думал он, — соблазнить маленькую девочку, к тому же еще такую, которая любит тебя всеми фибрами своего тела!» Все же это была первая задача, представшая перед ним с тех пор, как он стал мужчиной.
Он выглядит, как Ахилл, сказал недавно Феликс Прайндль. Красив, молод и силен, как полубог. Разве он не чувствовал своей силы, когда махал в фехтовальном клубе палашом? Разве он не замечает, как женщины смотрят на него! «Ахилл» — разве Петронелла, дочь сокольничего в Войланде, не сказала то же самое, когда они стояли перед Рубенсовским ковром? Он был в то время еще маленькой девочкой, такой же, как Ахилл на картине. Но Одиссей бросил ему меч, и герой схватил его. Тогда спали женские одежды. Девочка превратилась в мужчину. К нему тоже приехал герой из Итаки — это был не Брискоу, не он. Тот больше походил на Диомеда, его спутника. А Одиссеем, полным хитростей и пронырства, принесшим ему меч, был Ян. За ним одним Эндрис последовал в новую жизнь, в борьбу мужей.
«Он выглядит, как полубог, — сказал молодой венец, — как Ахилл, сияющий герой». Герои должны совершать подвиги, как и тысячи лет тому назад. Это — несомненно. Его первая задача кажется столь смешной и ничтожной, и все же он должен ее решить, он не смеет от нее отказываться именно потому, что она — первая. Он должен выйти победителем из этого первого боя, должен себе самому доказать, что он — мужчина. Себе самому — и кузену. Хотя бы это стоило крови и ран — что до того!
В этот вечер Эндрис пошел в свою комнату рано, сразу после ужина. Он разделся, бросился на кровать, но не смог заснуть. Пришла открытка, с двумя словами, написанными рукой кузена:
«Алло, Приблудная Птичка, что поделываешь?» А внизу — картина замка Войланд на старой гравюре, как он выглядел еще в рыцарские времена. Значит, Ян — в Войланде… и думает о нем.
Если бы он, кузен Ян, был теперь на его месте, все давно было бы так, как должно быть. Раздался бы тихий стук, дверь бы открылась — и вошла маленькая Гвинни! Она выключила бы свет, прошла бы к нему, села на кровать.
— Чего ты хочешь, Гвинни? — спросил бы он.
— Ох! — сказала бы она. — На дворе гроза, я боюсь! — И разве не закралась бы она, лишь немного помедлив, к нему под одеяло?
— На дворе сияет луна, — засмеялся бы он, — и светят все звезды! Но если ты, дурочка, боишься, так сильно боишься…
Это было бы для нее подарком — она с благодарностью целовала бы ему руки.
Эндрис прислушался. Дверь оставалась закрытой. Никто не стучал. Он должен пойти к ней, сесть на ее кровать. Если бы он там сидел… или если бы Ян там сидел…
— Тра-ла-ла, — сказал бы он. Не в слове суть, когда говоришь с лошадью, со щенком или с молодой девушкой. Только в звуке и в тоне голоса. Слова могут быть разные и языки — различные, но милая песенка всегда одна и та же. Ее кузен пел девушке, которая писала ему письма в Войланд, секретарше в лондонском дворце адмиралтейства, за что она продала ему секретные бумаги, пел застенчивой сестре Розе-Марии, позволившей за одно это положить себя в постель к чужому. И… и… скольким еще?..
Эндрису не лежалось спокойно. Даже теперь было больно вспоминать о тех женщинах.
Ведь и ему кузен пел такие же радостные песни, вернее, — ей. Эндрис закрыл глаза, припоминая все нежные слова, которые когда-то говорил Ян. Тогда, на Капри, и затем в Риме, когда он ее посетил. Затем в Берлине и один раз, только один раз — в Нью-Йорке, когда она приехала из Европы. И наконец, в последний раз — в летнюю ночь в Мюнхене.
В ушах звучал одуряющий голос Яна, отзывался в сердце и в мозгу — как дорого все это было!
Эндрис вскочил в постели, зашатался, схватился за спину кресла. Овладел собой — это уже прошло: он уже мужчина.
Скорее, скорее, пока он еще насыщен этими страстными звуками. Он накинул кимоно, на голые ноги надел кожаные туфли, вышел и через коридор подошел к двери Гвинни.
Секунду помешкал и, не стучась, вошел. Темно и тихо.
Он зажег свет. На кушетке сидела Гвинни, еще в вечернем платье, и пристально смотрела на Эндриса.
— Что с тобой, Гвинни? — спросил он.
— О, ничего, — ответила она.
Взгляд ее был печален. Что-то смутило его — что именно? Он понял: на столе не стояло ничего, даже не было стакана ледяной воды. Ну конечно, тут должно быть шампанское. Как тогда, в Мюнхене.
Он вспомнил, как говорил тогда Ян: «Гляди-ка, холодная утка. Это — ловко. Но только один стакан? Или ты хотела одна выпить всю бутылку?»
Он поднес бы стакан к ее губам…
Его лоб пылал. Он был так переполнен воспоминаниями, что даже громко сказал:
— Пей же, пей.
— Что мне пить? — спросила Гвинни.
Он покачал головой, опомнился, подсел к ней, взял ее руки, стал гладить ее щеки. Его охватило странное чувство: мужчина, сидящий тут, рядом с милой куклой, этот мужчина был Ян. Нет, конечно, это он, Эндрис… и тем не менее это был кузен.
Он уговаривал ее, как собачку.
— Где тебе больно? Это ничего, это — пройдет! Пей, зверюшечка, пей!
Ее голова лежала на его груди, и она тихо всхлипывала. Быстрая судорога прошла по ее телу.
— Это моя вина, — шептала она. — это только моя вина.
— Что такое? — утешал он ее. — В чем вина? Не плачь, мое дитятко, все будет хорошо. — Он взял ее голову в обе руки и снял поцелуем две большие слезы с ее щек.
— Да, — согласилась она. — Только бы мне пройти перед Красным Камнем, хоть один раз пройти…
— Что? — спросил он.
Она тесно прижалась к нему.
— Тэкс мне это сказал — ты должен мне объяснить!
Тогда он рассказал ей о кабаньей охоте своего предка и о красном памятном камне в парке в Войланде. О тракенэрской кобыле с выжженным тавром на левой ноге, о пятилетней Мире, которая боялась, становилась на дыбы, обливалась потом, дрожа от ужаса. И о Яне, который трепал ее по шее, целовал ее мордочку, шептал ей на ухо и провел ее мимо злого камня.
Гвинни внимательно слушала.
— И потом уже она всегда проходила мимо? — спросила она. — Никогда больше не испытывала страха?
Они сидели молча, рука в руке. Спустя некоторое время Гвинни произнесла:
— Я знаю, что все это значит.
Он наклонился к ней, поцеловал ее ушко, тихо пошептал ей. Как звон далеких вечерних колоколов, как летний ветерок, горячий и душный, наполненный липовым ароматом, были слова, стекавшие с его губ. Он сам не знал, что говорил, — слова без окончаний, нежные, милые, путаные слова.

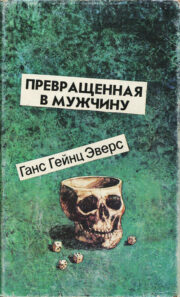
"Превращенная в мужчину" отзывы
Отзывы читателей о книге "Превращенная в мужчину". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Превращенная в мужчину" друзьям в соцсетях.