Этот красный памятный камень вызывал ужас у Миры. Так ззали тракенэрскую кобылу, которую, когда Эндри исполнилось четырнадцать лет, ей подарила бабушка. Это было прекрасное животное с выжженным тавром на левой ноге. Мира перепрыгивала через рвы, скакала по лугам, переплывала Рейн и всегда делала это с охотой. Темно-шоколадная пятилетняя кобылка чувствовала себя очень хорошо в своей просторной конюшне, ржала при появлении хозяйки, каталась по полу, задирая все четыре ноги. С удовольствием ела, любила, когда ее чистили скребницей и щетками, была довольна и весела весь день. И только одно черное облачко стояло на синем небе ее молодой жизни: придорожный камень в парке. Мимо него ее нельзя было провести. Она пугалась, вставала на дыбы, бросалась в кусты. Эндри снова и снова пыталась заставить кобылу пройти мимо камня. Прищелкивала языком, похлопывала по шее, уговаривала. Пускала в ход плетку и шпоры. Ничто не помогало. Животное, не знавшее другой воли, кроме воли своей госпожи, понимавшее ее с первого взгляда, казалось, подпадало по власть тайной, более могущественной силы, которую нельзя было ничем сломить. Четыре дня Эндри мучилась с кобылой, затем оставила ее в покое.
— Подожди, Мира, — сказала она, — пока приедет кузен, он тебе покажет.
Когда Ян приехал на каникулы, она поехала вместе с ним верхом через парк и продемонстрировала ему странный ужас кобылы перед красным камнем. Мира проделала свой спектакль — встала на дыбы, бросилась назад, нервно грызла удила. Эндри делала все, что могла, но кобылу не удавалось провести перед камнем. Точно от него исходила какая-то таинственная сила, внушавшая бедному животному дикий страх.
— Что с ней? — спрашивала Эндри. — Может быть, она что-то чует?
— Может быть, — согласился студент. — Несомненно, с ней что-то происходит. Нынче это называют комплексом — но и этим словом тут ничего не объяснишь. Может быть, ей еще жеребенком приснилось, как упругие сосцы матери превратились в твердокаменные пирамиды, и она не может поэтому переносить такие вещи. К сожалению, пока еще не существует никакого лошадиного Фрейда…
— Кого никакого? — спросила Эндри.
Ян соскочил со своего коня.
— Никакого Фрейда для лошадей, — смеялся он. — Фрейд — венский профессор, выдумавший комплексы и пишущий современные толкования снов, столь же глупые, как и старинные сонники. Это называют психоанализом — когда-нибудь позже узнаешь, Приблудная Птичка.
Он подошел к кобыле и взял в руки ее голову. Похлопал по шее, прошептал ей тихо несколько слов. Мира немного успокоилась. Тогда он взял поводья и повел ее вперед, не переставая ласкать и шептать ласковые слова. Закрыв своим телом камень, он провел ее мимо него. Повернув лошадь, провел ее еще раз. Повторил он это три-четыре раза. Вынув из кармана сахар, дал его кобыле, непрерывно шепча ей в ухо.
В конце концов он заставил ее пройти возле красного камня и положил на его верхушку кусок сахара. Бока кобылы раздувались, она дрожала всем телом, на коже повсюду выступил пот. И все же, несмотря на смертный страх, она чувствовала себя защищенной в руках Яна, под мягкий звук его шепота. Шаг за шагом она подходила ближе, встала возле камня, взяла сахар с верхушки. Наконец Ян отпустил Миру, еще раз поцеловав ее мягкую морду.
— Ну, садись, Приблудная Птичка, — приказал он.
И кобыла, слушаясь самого легкого движения поводьев в руках девушки, прошла мимо красной пирамидки.
Ян снова вспрыгнул на своего Фукса.
— Мира избавилась от своего страха, — сказал он. — Теперь она знает, что красный камень не так уж опасен.
— Что ты говорил ей на ухо? — спросила Эндри.
— Если бы я сам это знал, — расхохотался кузен. — Молодых лошадок, собак и девушек надо уметь хорошо уговаривать в подходящий момент. Но что говорить — этого я не знаю. Так, тра-ла-ла, что придет в голову. Не в словах тут дело, при страхе и при счастье вслушиваются лишь в звуки голоса.
Эту историю с красным камнем и вспомнил Эндрис. Разве не то же самое происходит с Гвинни? Она нежна и самоотверженна в своей любви, понимает тотчас же всякое его желание и с радостью его исполняет… Боится только одного глупого камня. Бросается назад, становится на дыбы, кидается в кусты, как кобылка Мира. Если бы он мог ее хоть раз, хоть единственный раз провести мимо камня, она бы, думал он, наверное, потеряла свой страх, взяла бы лакомый кусочек сахара и с наслаждением его съела.
Это был комплекс, душевное препятствие. Теперь Эндрис уже лучше понимал, что говорил тогда кузен. Если бы страх был побежден хоть один раз, он исчез бы навсегда. Разве Гвинни не понимает, что это — то счастье, которого она сама искала и желала? Разве ощущать себя женщиной в объятиях любимого мужа не есть величайшее блаженство, какое только существует? О, гораздо более сильное, чем короткое опьянение, испытываемое мужчиной. Теперь он это знает… И ни один человек на свете не может знать это лучше него. Ведь он был женщиной в объятиях кузена…
Он вынул маленькую фотографию, лежавшую в портфеле. Как мило выглядит Гвинни. Если бы он сделал, как Ян: взял ее голову в руки, поцеловал ее мордочку, прошептал тихо в уши? Что?.. Да так, тра-ла-ла… Что придет в голову. Но тут-то и загвоздка: ему ничего не приходило в голову, во всяком случае, не то, что надо бы! Он робеет перед ней, как гимназист из Клеве во время своего первого урока танцев.
Он взял лист бумаги с написанными на нем словам: «Дорогой кузен Ян!» Не надо ему ни о чем рассказывать, следует лишь написать: «Я нуждаюсь в тебе. Прошу тебя: приезжай!» Он знал, что кузен приедет, поможет ему. Эндрис схватил вечное перо и открыл его. Задумался и снова закрыл. Взял листок бумаги и порвал его… Нет, нет, он должен найти решение сам! Он же мужчина, как и Ян. В нем, как и в Яне, течет кровь Войландов.
Проходили недели за неделей, а Тракенэрская кобылка все еще не взяла сахара с красного камня. Все было по-старому. Тэкс и Феликс проводили время со своими приятельницами, Эндрис — с Гвинни. Он ездил с ней верхом, брал ее в фехтовальный зал, научил фехтовать саблей и рапирой. Временами он освобождался от нее и сопровождал тех двоих. Делал это за ее спиной, когда она ложилась спать, а иногда устраивал так, чтобы она это заметила. Рассчитывал на ее ревность…
«Теперь, — думал он, — она закатит мне жестокую сцену. За сценой последует примирение, а там уж будет удобный случай…»
Но Гвийни подмечала не только его вылазку, но и его намерение, связанное с ней. Она подавляла всякую ревность. Не было ни сцены, ни примирения, ни удобного случая… Ни малейшего упрека не делала она своему жениху, а пробирала только Тэкса. Он должен был давать ей точный отчет, передавать каждое слово, сказанное Эндрисом, сообщать о каждом сделанном им движении. Такой допрос длился часами, и до сих пор так сильно было ее влияние на молодого американца, что он докладывал ей правдиво обо всем происходившем. А после этого заходил к Эндрису и жаловался на свое горе.
— А ты сказал Гвинни, что я поцеловал Риголетту? — спрашивал Эндрис.
Тэкс глядел на него, вытаращив глаза.
— С какой стати я это буду говорить? Ты же ее не целовал.
Эндрис напал на него:
— Это безразлично, это совершенно все равно! Скажи в следующий раз, что я посадил ее к себе на колени и целовал, что я ее щекотал, обнимал и…
Но Тэкс Дэргем не соглашался.
— Мне это не нравится, — заявил он. — Гвинни страдает — она совсем с ума сошла из-за тебя. Она отлично знает, что ты это делаешь намеренно. Она сама мне сказала. И тем не менее она страдает.
— Так пусть страдает! — воскликнул Эндрис резко. — Что тебе до этого? Пусть страдает, пока не…
Он умолк. В голове пронеслось: это слова кузена! Так на его месте крикнул бы Ян, резко и жестко, и в то же время почувствовал бы, как и он, Эндрис, нежнейшее сострадание.
— Послушай, Тэкс, — продолжал Эндрис. — Гвинни права. Я делаю это нарочно. Делаю, чтобы ее мучить. Я должен так поступать ради нее. Она должна… пройти мимо красного камня. Один раз, только единственный раз — тогда все будет хорошо!
— Что она должна сделать? — спросил Тэкс Дэргем, выпучив глаза.
Эндрис отвернулся.
— Ах, оставь!
Он опустил голову. Разве это не было снова «шпорами» и «плеткой». Ян поступал иначе, чтобы провести через дорожку тракенэрскую кобылку.
Тэкс пожал плечами и зажег свою трубку.
— Как хочешь, Эндрью. Я хотел бы только, чтобы вы оба со своими взвинченными чувствами оставили меня в покое.
Он громко вздохнул. «Как проста, — думал он, — любовь, как красива, удобна и понятна! Если, конечно, имеешь таких разумных приятельниц, как у нас с Феликсом. Говоришь, что было, пьешь, целуешься, смеешься, шутишь. Иногда немного и подразнить друг друга и посердишь, но после этого снова все так же хорошо. Но эти оба, Гвинни и Эндрис, отягощают себе жизнь из-за ничего и ничего не получают. Они любят друг друга, и потому один другого мучают… Как это глупо! То, что Гвинни немного спятила, это ему давно было ясно, но что и Эндрис… Похоже, и у него с головой не лучше. Что говорил он?.. Она должна пройти мимо красного камня? Что это значит? Просто они оба — сумасшедшие!»
Когда Дэргем выходил из комнаты Эндриса, открылась дверь на противоположной стороне коридора. Его позвала Гвинни.
— Ты был у него, Тэкс! Что он говорил?
Тэксу уже надоели эти перекрестные допросы.
— Прошу тебя, Гвинни, оставь меня в покое. Я все тебе рассказал, что знал, и…
Но она не отпускала его.
— Что он сказал теперь, вот что я хочу знать.
Тэкс отвернулся. Его роль ему совершенно не нравилась. Быть передатчиком от одного к другому! А в результате, несмотря на его благие намерения, дела пойдут еще хуже. Все же он повиновался, дал ей отчет.
— Он требует, чтобы я тебе в следующий раз рассказал про него еще больше всякой всячины, даже то, чего он вовсе и не делал. Я должен тебе налгать, что он целовал и обнимал Риголетту. Конечно, я отказался.

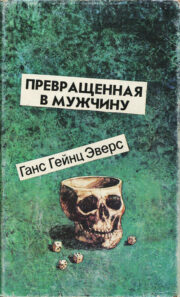
"Превращенная в мужчину" отзывы
Отзывы читателей о книге "Превращенная в мужчину". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Превращенная в мужчину" друзьям в соцсетях.