Итак, этим вечером, исполняя самую драматическую свою роль — роль самой себя, Сью Кэрол была одета в черную водолазку (чтобы скрыть начинающий обвисать подбородок и двойную складку на шее — они позволяли определить возраст, подобно кругам на срубе дерева), утепленные черные джинсы, черные ковбойские ботинки (хорошие — отменная работа сапожника из Кентукки). Сверху она накинула старый мутоновый полушубок с большими карманами, приятно гладкий на ощупь, но наваливающийся тяжкой ношей на ее ссутулившуюся фигуру.
Перед уходом у Сью Кэрол промелькнула мысль: а может, собрать вещи и просто поехать домой, в Бутчер-Холлоу? Отказаться от всего, чтобы втиснуться в маленькую комнатку, где прошло ее детство, поваляться на кровати с оборками, побыть с мамой и Гретой, которые будут утешать ее, приговаривая: «Может, на свете и есть девушка красивее тебя, Сью Кэрол, да только мы такой не встречали». Они «откачают» ее, восстановят ее душевное здоровье с помощью кофе и все той же выпечки. Может, она даже растолстеет, врастет в кресло, как мама и ее подруги, и превратится в одну из тех добродушных старых дев, что возятся по хозяйству и даже особенно не оплакивают бессмысленность своей жизни.
«О да, — подумала Сью Кэрол, — иногда существовать легче, чем жить». Сожаления можно задавить лишним весом, тоску заглушить мыльной оперой. Можно прочитать все непрочитанные книжки или просто ничего не делать. «Считать цветочки на стене — вот занятие по мне», — вспомнила Сью Кэрол строчку из любимой маминой песни; мама пела ее, когда дочь была маленькой. Явственно представив образы своей спальни — кроватку с пышным покрывалом, многочисленных Барби, школьные значки, приколотые на пробковую доску, — Сью Кэрол поняла, что не хочет возвращаться домой. Если маме так нравится, она может сколько угодно сохранять этот музей, но Сью Кэрол не должна становиться его экспонатом, восковой фигурой своего бывшего «я».
Она любит родителей, но не настолько, чтобы жить с ними бок о бок. Достаточно того, что ради них она жертвует праздниками. По правде сказать, она чувствует себя досрочно освобожденным преступником (вынужденным время от времени отмечаться в полиции), когда ей приходится приезжать в маленький, отделанный винилом дом в колониальном стиле и забиваться, как курица на насест, в крошечную спальню.
Виниловая отделка появилась, когда Сью Кэрол уже отбыла в Нью-Йорк. Предполагалось, что винил будет предохранять внешние стены и препятствовать облезанию краски, но Сью Кэрол это новшество не нравилось: ей казалось, что теперь ее дом выглядит фальшивым, как слишком сильно накрашенная женщина. К тому же винил не только не пропускал влагу снаружи, но и не выпускал ее изнутри, из-за чего в доме воцарилась сырость. Таким образом, родители Сью Кэрол сменили шило на мыло — шелушение наружной краски на плесень внутри дома. Каждый раз, приезжая в Бутчер-Холлоу, Сью Кэрол помогала маме протирать стены смесью отбеливателя и чистящих средств. Зловоние грибка и химикатов, используемых для борьбы с ним, казалось, совсем заглушило старый, родной запах дома, аромат булькающей на плите похлебки, подрумянивающегося в духовке печенья.
И как Сью Кэрол будет чувствовать себя, вернувшись домой после развода? Повиснув на поручне, она невольно, но чувствуя горечь разочарования, сделала уступку: а что если толстые женщины в ее родном городке рассуждали здраво? Ведь если хорошенько разобраться, то мужчины действительно «другие», прямо-таки существа с иной планеты, и все они знают только одно: что у них есть «длинная штука, а у нее — дырка, куда эту штуку можно сунуть». А как еще объяснить такой факт: президенты, политики, врачи, юристы, писатели, преподаватели — невежественные или образованные, прожив с женщиной несколько лет, в какой-то момент понимают, что она недостаточно молодая, недостаточно «новая» для них и что им надо пойти куда-то еще, вложить свои члены в какие-то другие отверстия. Только вот что они хотят испытать? Обновление или просто возбуждение? Или им просто нужно подтверждение своих мужских способностей? О да, порой у женщин, возможно, нет другого выбора, кроме как «откусить это».
Сью Кэрол чуть не расхохоталась в голос и едва не потеряла равновесие, но вовремя ухватилась за вертикальный столбик. Она вспомнила, как однажды, несколько лет назад, мама с Гретой пережили триумф, когда в новостях сообщили об одной молодой жене, которая действительно взяла и «откусила это». Но «хренов мужик», как выразились женщины, «вовремя обратился к врачу, и ему пришили это обратно. Он так и не успокоился — позировал для „Плейбоя“, имел еще кучу женщин».
— Ничем мужика не остановишь, — со смехом подытожила Грета, — если он хоть раз сходил налево.
И вот теперь Боб, любимый ею на протяжении пятнадцати лет муж, вступил в братство неверных. Что ж, Сью Кэрол не пойдет по стопам своей матери — ни прощения, ни печенья, ни злобных ток-шоу. Она — другая, даже если Боб такой, как все.
Она умная, талантливая, симпатичная, в чем нет никаких сомнений. Ей стоит только свистнуть, чтобы привлечь любого понравившегося мужчину; в сущности, они сами к ней липли, а она только их отталкивала. Сью Кэрол стройная, но с большим бюстом. В Кентукки о таких говорили: «фигуристая» или «с такой фигурой не пропадешь». К тому же Сью Кэрол поет. Если в своем актерском даровании она время от времени сомневалась, то голос не давал повода для сомнений. Она поет ничуть не хуже Долли и почти так же душевно, как Лоретта.[18] У нее настоящее колоратурное сопрано, и голос поможет ей выбраться из беды, как дюжину раз случалось в юности. Сопрано Сью Кэрол помогло ей удрать из «дома в колониальном стиле» и вообще из Кентукки. Во многом благодаря своим вокальным данным она вышла замуж за красивого, убийственно красивого актера, происходившего из семьи со «старыми деньгами». Правда, его вдовствующая мамаша (Сью Кэрол называла ее Женщиной-пауком) не давала сыну ни цента из этих денег, но все же они существовали неким фоном, внушали какую-то зыбкую надежду.
Сью Кэрол ненавидела мать Боба, эту самку скорпиона, той особой ненавистью, которую женщина может испытывать к своей свекрови из-за того, что та загубила мальчика, который вырос, чтобы стать ее супругом.
Женщина-паук то сюсюкала («Ну же, малыш, поцелуй, поцелуй свою мамочку!»), то огрызалась («Оставь меня в покое, не видишь, у меня мигрень?»). Вот поэтому Боб совершенно запутался и, уже став взрослым, по привычке исповедовал такую же любовь-ненависть, занимаясь сексом все с новыми и новыми женщинами, видимо, чтобы разобраться в этой путанице. Может быть, он искал свою Женщину-паука — такую, чтобы не сбрасывала его со своих коленей? Но особенно ужасно мать Боба вела себя, когда дело касалось денег. Она унаследовала миллионы, но всегда держала при себе только маленькую блестящую сумочку из паучьей… то есть змеиной… кожи (размером с пачку бумажных салфеток), словно иллюстрируя свою любимую фразу: «У меня просто нет к ним доступа, милый. Ты уж лучше попробуй заработать сам». Ее дочь Дафна, сестра Боба, находилась в психиатрической клинике. Время от времени ее выпускали, и она сразу же отправлялась в «Блумингдейлс» или «Бергдорфс» и совершала — по кредитной карточке — покупки на сотни тысяч долларов. Все вещи мать аккуратно возвращала в магазин, как возвращала и Дафну — в больницу «Силвер-Хилл», где ей назначали какое-нибудь новое лечение. «Деньги свели всю семейку с ума, — думала Сью Кэрол, — и все-таки это лучше, чем не иметь вообще ни гроша».
Сью Кэрол всегда предполагала, что на счету у Женщины-паука куча денег, а значит, когда-нибудь Бобу и его сестре тоже кое-что перепадет. Происходить из семьи с деньгами совсем не то же самое, что из семьи без денег: Боб казался более уверенным в себе, как будто у него есть невидимая подушка безопасности на случай, если он попадет в аварию.
Деньги.
Что ж, теперь им с Бобом предстоит развод, и перед Сью Кэрол встает вопрос: стоит ли ей претендовать на часть его денег или нет? В течение пятнадцати лет она была ему хорошей женой, так почему бы и нет? А что с квартирой? Может быть, спустя какое-то время заявить свои права на «11 H» («H», как в «hell»,[19] так она всегда объясняла разносчикам из тайского ресторана, когда заказывала лапшу)? Разве измена Боба дает ему право единолично владеть двухкомнатной квартирой с фиксированной квартплатой и видом (пусть и отдаленным) на Центральный парк, а также на кусочек реки? А встроенные шкафы, а кухня, отделанная мореной сосной (Сью Кэрол лично этим занималась)? А как насчет ее медных горшков, бразильской пальмы, дивана, покрытого старым лоскутным одеялом из Бутчер-Холлоу? Разве Сью Кэрол, как пострадавшая сторона, не может рассчитывать на компенсацию? Может быть, даже на алименты?
Сью Кэрол выпрямилась, ухватившись за шест, и попыталась оглядеться «видящим» глазом. Нет, черт подери, она не возьмет ни цента. Он подонок, а деньги подонка ей не нужны. Она покажет ему, покажет, что может преуспеть сама по себе. И пусть оставляет себе квартиру: он ее осквернил, так пусть она будет его холостяцким логовом. Да, Сью Кэрол тридцать шесть, но выглядит она на двадцать шесть, значит, и на мир надо смотреть глазами двадцатишестилетней. Еще не слишком поздно: она все еще может стать той, кем призвана стать… причем сама по себе.
Сью Кэрол посмотрела вниз, на сумки, заключавшие в себе все, что было ей дорого, всю ее историю. Она почувствовала себя своим самым любимым персонажем во всей мировой драматургии — Бланш Дюбуа.[20]
«Я всегда зависела от доброты первого встречного».[21]
Разве какой-то мужчина не помог ей перенести сумки через турникет? Разве не найдется в Нью-Йорке человек, который поможет ей найти другую работу, другую квартиру с низкой арендной платой? Да, если она будет упорно добиваться своего и сохранит веру в свои силы, то все у нее получится.
«Что ж, здорово», — подумала Сью Кэрол, а поезд тем временем с грохотом прибыл на «Четырнадцатую улицу».

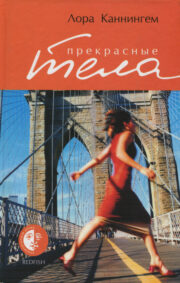
"Прекрасные тела" отзывы
Отзывы читателей о книге "Прекрасные тела". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Прекрасные тела" друзьям в соцсетях.