Подсказки были разбросаны по всей квартире. Самый важный документ Нина нашла прямо в день своего возвращения сюда: дневник в розовой ледериновой обложке, который она все эти годы держала запертым в своем детском столе, теперь по большей части занятом маминой «галантереей». Да, он все еще лежал здесь, ее сексуальный дневник… Она вела его в старших классах. На самом деле розовая девичья тетрадь была, скорее, «антисексуальной», поскольку здесь фиксировалась нравственная борьба Нины с самой собой. Снова и снова встречи с соседскими мальчиками заканчивались ничем. Ведь как бы ни менялись нравы, всегда считалось, что особа женского пола может быстро потерять уважение, а Нина вовсе не хотела казаться «легкой добычей». В их доме жила девушка, Линда Муха, запечатленная в граффити на стене помещения для сжигания мусора: «Линда Муха… рифмуется со…» Нина читала это каждый раз, когда по просьбе мамы выбрасывала мусор. Там, среди бушующего пламени, среди вони горящего мусора, Нина накрепко запомнила одну вещь: не приведи Господь, чтобы ее имя было написано на этой стене.
Пять месяцев назад Нина совершила нечто невообразимое: снова поселилась вместе с мамой, а заодно продолжила, почти сразу, вести свой дневник. Она прожила вне «дома» (если только можно назвать «домом» квартиру на двадцать первом этаже здания «Объединенный проект», построенного под влиянием социалистических идей) почти двадцать лет. Конечно же, Нина сохранила свою квартиру на углу Семьдесят седьмой улицы и Риверсайд-драйв: и думать было нечего отказываться от хорошей квартиры на Манхэттене, куда она рассчитывала вернуться после смерти матери. Однако в настоящее время было куда проще жить в Бронксе, в доме «Объединенный проект».
Мире Московиц оставалось уже недолго, а о том, чтобы она жила одна, не могло быть и речи. Такое решение Нина приняла прошлым летом, в то утро, когда Мира хотела поджарить тосты и, сама того не замечая, подожгла кухонные занавески. Вместо того чтобы отреагировать на визг пожарной сигнализации (весьма настойчивый), старая женщина поплелась в спальню и закрыла за собой дверь. Соседи учуяли дым и позвонили интенданту, а тот, в свою очередь, сообщил о случившемся Нине.
То, что вначале казалось простой забывчивостью, вскоре обернулось полной деградацией. Однажды Миру Московиц в розовом пеньюаре и меховых тапочках обнаружили на оживленной улице, едва ли не посреди проезжей части. В ходе обследования Мире поставили диагноз: закупорка артерий и сердечная недостаточность. Также было упомянуто старческое слабоумие. Нине пришлось выбирать из трех вариантов: отправить маму в дом для престарелых, перевезти ее в свою квартиру или самой — на неопределенный срок — переехать в квартиру «21 L» в корпусе «А».
Вначале Нина попыталась переселить маму в свою квартиру на Семьдесят седьмой улице, но обеим женщинам эта попытка показалась неудачной. В глубине души Нина была рада, что мама предпочла вернуться в Бронкс. Вид больничной койки, почти целиком заполнившей гостиную, где Нина в разные периоды жизни предавалась любовным утехам на пушистом ковре, настолько угнетал ее, что она предпочла временно переехать в Бронкс. Маленькая, но аристократически убранная квартирка Нины предназначалась исключительно для романтических отношений: пальмы в кадках, шезлонг, пышные подушки у камина, толстые персидские ковры. А появившиеся здесь с приходом мамы больничная кровать, комод, ходунки, все эти атрибуты старости, немощи, наконец, смерти, пугали Нину, пугали гораздо больше, чем необходимость совершить это долгое путешествие на север, в Бронкс, в прошлое, туда, откуда Нина когда-то сбежала.
Бедная Мира. Доставленная санитарами в квартиру на Семьдесят седьмой улице, она, видимо, была сбита с толку нарядным интерьером. Казалось, она и сама чувствует, что ее вязаная шапочка с блестками и розовый пеньюар плохо сочетаются с гаремной обстановкой жилища дочери. Ее замутненный разум бесцельно блуждал, и она все время спрашивала Нину: «Что это за гостиница?» В какой-то момент Мира даже вообразила, что снова оказалась в Одессе. Она была очаровательна, что свойственно некоторым старикам, когда то и дело напевала пустячную песенку: «Одесса — это месса». По ночам Мира отправлялась блуждать по квартире, стуча ходунками и натыкаясь на стены. На вторую ночь она заплакала, как ребенок, и попросилась домой — в Россию, откуда ее увезли еще девочкой. Нина, конечно же, не могла отвезти ее прямо в Одессу, но отправить маму в «Объединенный проект» было вполне реально. Дочь хорошо представляла себе, что нужно матери: привычная обстановка, которая будет благотворно на нее действовать. В такой ситуации «привычное» и «знакомое» оказывались единственными значимыми критериями, а «удобное» и «красивое» отступали на второй план. Маме была необходима ее собственная квартира с привычным освещением, залежи вышивок, накопившиеся за шестьдесят лет, урчание ее старого холодильника.
Нина собрала несколько чемоданов, взяла компьютер и на больничной машине повезла Миру в северный Бронкс — туда, где конечная станция ветки метро была конечной в буквальном смысле слова: она называлась «Кладбище Вудлон». Так Нина вернулась в «запретный город» из белого кирпича, в район «Объединенного проекта», где она провела детство. Здания «Объединенного проекта» строились для квалифицированных рабочих, состоявших в профсоюзе; дома эти были высоки и рассчитаны на средний класс. Они были такой же высоты, что и скала с видом на реку и на рычащую автотрассу внизу, и в то же время чем-то напоминали поселения индейцев. Комплекс состоял из четырех башен, на удивление естественно реагировавших на грохот скоростной магистрали: из-за напряженного движения стекла в окнах дрожали и покрывались бельмами сажи. Почти всем жителям (да и всем предметам) в этих домах было под восемьдесят. Как только Нина вошла в подъезд, ее сразу же захлестнули запахи горелого мусора, куриного бульона, вареной капусты и средства для мытья пола. Так вернулось Нинино детство, детство, на сей раз обремененное необходимостью заботиться о Мире, организовывать дежурство сиделок, а в последние недели еще и визиты сотрудников хосписа, социальных работников, двух медсестер и еще нескольких нянек. По мере того как возрастала ответственность Нины, ее внутреннее «я» как будто становилось более инфантильным: она жила в своей старой комнате, занимала свою некогда любимую кроватку с пологом. В возрасте десяти лет она мечтала об этой кроватке, умоляла купить ее, а теперь, когда ей исполнилось тридцать восемь, постель казалась ей нелепой, созданной для карлика. Когда Нина садилась за свой старый письменный стол, то коленями упиралась в выдвижной ящик. Она чувствовала себя гигантом, Алисой не в той Стране Чудес, нависающей над каждым предметом, слишком огромной, чтобы выйти через обычную дверь.
Миниатюрность комнаты и мебели, возможно, стала одним из мотивов, побудивших Нину сесть на диету, хотя, впрочем, Нина никогда особенно не нуждалась в мотивах. Она была «диетоголиком» — сидела на диете уже лет десять. Она испробовала все: диету из одних углеводов, безуглеводную диету, капустную диету, фруктовую диету, жидкую диету, злаковую диету, комбинированную диету. Поздней ночью она смотрела по телевизору рекламу фитнеса (для страдающих бессонницей) и заказывала травяные микстуры, чтобы еще больше снизить вес. В минуту почти маниакальной озабоченности своими габаритами Нина заказала «Суп для потери веса»: «Хотите посмотреть, как ваш жир хлынет в канализацию?»
Отметим, что, несмотря на эту одержимость диетами, Нина Московиц вовсе не была толстой. Она весила ровно сто сорок девять фунтов (без обуви), а рост ее был пять футов восемь дюймов (тоже без обуви). Однако нынешние стандарты заставляли ее ощущать себя низенькой и коренастой — почти такой же, как старушка миссис Беленкова, время от времени помогавшая смотреть за мамой.
Здесь, в Ривердейле, Нина чувствовала себя почти стройной, но чем дальше она ехала в южном направлении, тем короче и толще казалась в сравнении с тамошними жительницами. В своем собственном районе, в южном Вест-Сайде, Нина ощущала себя на грани дозволенного, но где-нибудь в Сохо ей казалось, что она годится только на то, чтобы толкать перед собой тележку с овощами. А уж когда она посещала «южных подруг» Джесси и Лисбет, то всегда обнаруживала, что идет вслед за какой-нибудь газелеподобной двадцатилетней девицей, демонстрирующей неестественно огромное расстояние между ляжками. Они что, не знают, что ляжки должны тереться друг о друга? И вообще, откуда берутся такие девицы? Они похожи на инопланетянок — длинные, худые, но с непомерно большими грудями (при этом все поголовно разгуливают без лифчиков). Эти груди устремлены вперед и словно вынюхивают самое интересное в ночной жизни города.
У Нины была большая грудь; в Бронксе такую грудь называли «бюст». Что и говорить, Нина обладала выдающимся бюстом, но лучше бы он так не выдавался. Едва начав созревать, ее груди стали причинять ей неудобства. Начать с того, что они появились слишком рано и развивались асимметрично. В начальной фазе развития правая грудь была крупнее левой. Потом груди выровнялись, приняли форму чашечек и стали привлекать больше внимания, чем Нине хотелось бы (надо сказать, все это происходило еще в начальной школе). Мальчишки преследовали ее, норовили ущипнуть за грудь и тут же смыться. Когда Нина шла, прижимая к груди свою папку с тетрадками, паршивцы отпускали реплики по адресу ее «титек», или «буферов». Но, видимо, этих страданий оказалось мало, и вскоре груди покорились силе притяжения и отвисли, сильно давя на лямки Нининого лифчика. За несколько лет на плечах у Нины образовались желобки — следы от лямок, оттянутых тяжелой ношей.
Одно время Нина подумывала, не сделать ли операцию по уменьшению груди, но потом оставила эту мысль. Каждый год ей встречалось определенное число «трудолюбивых» мужчин, которые были не прочь за ней приударить. Само собой, Нина не хотела терять этот контингент. Таким мужчинам нравилась большая грудь, вне зависимости от ее упругости. Они зарывались в изобилие этих подушек плоти, целовали их, лизали, ласкали, трогали. Нина могла с точностью утверждать, что груди играют важную роль в ее сексуальной жизни, а потому смирилась с их чрезмерным весом.

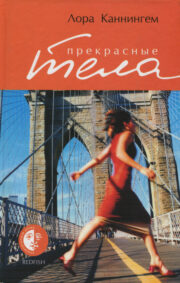
"Прекрасные тела" отзывы
Отзывы читателей о книге "Прекрасные тела". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Прекрасные тела" друзьям в соцсетях.