Филип и Кэт отправились на капитанский мостик смотреть, как Сэм будет управлять кораблем (Сидни оставалось лишь молить бога, чтобы корабль не повернул к берегам Бразилии). Тетя Эстелла спустилась к себе в каюту вздремнуть после ленча (вздремнуть по-настоящему, разумеется, а не безобразничать, как они с Майклом). Дул легкий соленый ветерок. Пушистые белые облачка изредка проплывали по безупречно голубому небу. Стюард принес ей очередную чашку чаю с легким сахарным печеньем, тающим во рту.
Ну чем не рай?
– Я закончила, – объявила ее свекровь, отступив назад и опустив кисть и палитру. – На сегодня.
Она вытерла руки тряпкой и встала рядом с Майклом.
– О, это потрясающе! Обняв его за плечи, она наклонилась ближе, чтобы рассмотреть картину. «Мать и сын, – подумала Сидни. – Как прекрасно они смотрятся вместе». Леди Элизабет накинула заляпанный краской халат поверх своего лилового платья и обмотала голову тафтовым шарфом, чтобы волосы не попадали в глаза. В свете послеполуденного солнца ей можно было дать ее возраст: лет сорок – сорок пять, решила Сидни. Но иногда, при свете свечей, она выглядела как молодая девушка.
Майкл обвил рукой ее талию и вместе с ней перешел к ее мольберту.
– Чудесно! – воскликнул он с искренним восторгом. – Вам удалось гораздо больше, чем мне.
– Не могу согласиться!
– Принесите оба полотна сюда, и мы рассудим, какое лучше, – предложил лорд Олдерн.
Это предложение показалось Сидни опрометчивым: ей не хотелось быть судьей в состязании между матерью и сыном. «Зовите меня Теренсом», – предложил ей свекор в день венчания. Она поблагодарила и сказала, что непременно так и поступит, но пока не выполнила обещания. Не сумела. Называть его Теренсом? Нет уж, увольте, это не в ее силах. Поэтому до сих пор она его вообще никак не называла.
У каждого из Макнейлов и Винтеров имелся свой шезлонг: лорд Олдерн зарезервировал их в первый же день на все время путешествия, причем они, безусловно, занимали лучшее место и вообще были самыми комфортными, какие только мог предоставить роскошный пассажирский лайнер. Как хорошо, частенько приходило в голову Сидни, что ей так повезло с семьями – старой и новой. Не всякая новобрачная добровольно согласилась бы проводить свой медовый месяц с мужем в обществе семи родственников.
После долгих уговоров Майкл и его мать наконец перенесли свои картины к шезлонгу его отца. Лорд Олдерн изучал их целую вечность, но так и не высказал никакого суждения. Отец Сидни близоруко наклонился, чтобы их рассмотреть, щурясь сквозь пенсне, что-то бормоча и напевая себе под нос. Одолеваемая любопытством, Сидни тоже наконец сделала над собой героическое усилие: поднялась с шезлонга и подошла поближе.
И мать, и сын работали маслом (акварельные краски слишком быстро высыхали на соленом ветру), но помимо этого морские пейзажи, изображенные двумя художниками, не имели между собой ничего общего. Линия горизонта, четко выписанная уверенной рукой мастера, разделяла надвое картину леди Элизабет. На горизонте темная вода встречалась со светлым небом, синее с голубым. Художница сумела передать спокойствие ленивого солнечного полдня и при этом – благодаря привнесенным на полотно белым барашкам, облакам и воображаемым чайкам – избежать однообразия. Получился очаровательный пейзаж: уравновешенный и гармоничный, но в то же время не лишенный скрытого напряжения.
Картина Майкла в буквальном смысле слова не влезала ни в какие рамки. Любые ориентиры вроде неба, линии горизонта, на которых глаз мог бы отдохнуть, на ней отсутствовали. Он нарисовал океан и больше ничего. Эффект должен был оказаться хаотичным – просто беспорядочное нагромождение синей краски – но этого не произошло. Никто не принял бы энергично наложенные слои и оттенки синего, зеленого, умбры, желтого и ультрамарина за что-либо иное, кроме сердитой и беспокойной, бесконечно переменчивой морской воды. Там, где краски наносились друг на друга толстыми мазками, ему удалось добиться даже ощущения глубины, третьего измерения. Удивительным образом эта картина будоражила зрителя и в то же время создавала впечатление насыщенности, наполненности, удовлетворения.
– А знаешь, я веду класс художественного мастерства, – мягко улыбаясь, заметила леди Элизабет, присевшая на край шезлонга лорда Олдерна. – Правда, студентов у меня совсем не много. Они просто приходят ко мне…
Все обменялись улыбками, думая об одном и том же: как многого они еще не знают друг о друге.
– Они приходят к ней после занятий в художественной школе, – с гордостью глядя на жену, пояснил лорд Олдерн. – Вечно ты скромничаешь, Лиззи.
Рассеянным ласковым жестом она провела тыльной стороной руки по его щеке.
– Я могла бы дать тебе несколько уроков, Майкл, но мне страшно.
– Страшно? Почему?
– В твоей работе полностью отсутствует дисциплинирующее начало – это игра воображения в чистом виде. Боюсь, что я только все испорчу, если начну тебя учить. Выучившись рисовать по правилам, ты можешь навсегда лишиться своей непосредственности, прямоты, эмоциональности… всего того, что делает твою работу неповторимой. Это отнюдь не наивная живопись. Я не раз видела, как дети рисуют с таким же увлечением, но они никогда не достигают подобной глубины.
Это правда, с растущим волнением подумала Сидни. Казалось, сам Майкл растворяется в волнах на морском полотне, растворяется во всех своих картинах: никто не научил его смотреть на них со стороны. А что, если у него и вправду особый талант? Вдруг он сможет стать настоящим художником, добиться признания?! Она искренне желала ему этого.
– И все-таки немного дисциплинирующего начала ему не помешает, – осторожно заметил отец Майкла, обращаясь к жене как к специалисту. – Ты так не думаешь, Лиззи?
– Возможно, но только совсем немного. Надо проявить максимальную осторожность. Непосредственность – вещь хорошая, но только если она не мешает художнику передать нам свое видение мира. В идеале правила для того и придуманы, чтобы способствовать общению художника со зрителем. С другой стороны, действительно существует опасность, что изучение правил может затуманить твое видение, Майкл. Вот это меня и пугает.
– Но вы сами можете меня научить, мама, – жизнерадостно откликнулся Майкл.
– Нет. Но в Эдинбургском университете есть один человек, которому я доверяю.
– Фрост? – спросил лорд Олдерн. Леди Элизабет кивнула.
– Он проявит осторожность. Отнесется с уважением. Да, ему бы я доверилась.
Отец Сидни вытащил изо рта незажженную трубку.
~ Школа искусств в Чикаго, – сказал он, – считается одной из лучших в мире.
Сидни была готова его расцеловать.
– Совершенно верно, – горячо согласилась леди Элизабет. – Так оно и есть. Майкл может учиться, где пожелает. Или вообще не учиться.
Все замолчали, погрузившись в раздумья.
– А знаете, – прервал паузу профессор Винтер, – эти две картины могли бы послужить идеальным приложением к монографии об эволюции человека, над которой я сейчас работаю.
Никто не произнес ни слова, но атмосфера неуловимо изменилась.
– А впрочем, может быть, и нет, – продолжал он, не замечая всеобщего уныния. – Мы можем утверждать, что картина Майкла, поскольку она создана без всяких правил, является чистейшим продуктом наследственности или, другими словами, первозданной природы, в то время как картина леди Олдерн – это продукт окружающей среды. Плод учения.
– Но моя мать тоже была художницей, – возразила леди Элизабет. – Это означает, что хотя бы часть моего дарования (если тут вообще можно говорить о даровании) передалась мне от нее. Это наследственность.
– Вот именно! – в восторге вскричал профессор Винтер. – В этом-то вся и соль! А Майкл прожил все эти годы не в вакууме, а в окружении первозданной природы. В каком-то смысле природа стала его школой, точно так же, как вашей была…
– Королевская академия.
– Как вашей была Королевская академия. И кто может утверждать наверняка, которая из двух школ (даже если бы их влияние можно было разделить) в конечном счете делает работу художника лучше? Только не я, – категорически заявил отец Сидни.
– И не я, – эхом откликнулись все остальные. Вскоре после этого Макнейлы направились в свои каюты.
Ее отец поднялся вместе с ними, но ненадолго задержался, дав обогнать себя. Ему хотелось раскурить трубку, но он ждал подходящего момента из уважения к леди Элизабет. Теперь он с наслаждением закурил. Дымок из трубки – и его легкие белые волосы засветились ореолом вокруг головы, копируя в миниатюре клубы дыма, вырывавшиеся из пароходной трубы над головой.
– Я не знаток живописи, – заговорил он, возвращаясь к своему привычному отрывистому стилю. – Понятия не имею, что там и как. Действую интуитивно. Может, это инстинкт, а? Персональные предпочтения, в любом случае. Но это строго между нами. Никому не говорите.
– О чем, папочка? – озадаченно спросила Сидни.
– Что делает работу художника лучше? Гм… – Профессор деликатно указал на картину Майкла, оставленную сохнуть на покинутом владельцем шезлонге. – Эта лучше. Не технически… – Он задумался, щурясь от дыма. – Духовно? Нет, это не то слово. Сердце, – вдруг сообразил он с удивлением. – Вот оно. В этой работе больше сердца. Только не говорите матери, хорошо?
Он пошевелил бровями с видом заговорщика, одарил Сидни и Майкла своей доброй улыбкой и заковылял прочь. Майкл задумчиво посмотрел вслед Винтеру. Сидни взяла мужа под руку, и они вместе подошли к бортовому поручню. – Солнце опускается, – сказал он, указывая на горизонт. – Так я говорил когда-то. Мысленно. Пока не узнал правильное слово.
– Солнце опускается.
Сидни улыбнулась ему. Красные лучи заката зажгли искры в ее красивых волосах, похожих на лисий мех. Палуба опустела. Майкл обнял ее, его рука пробралась под шаль. Она тоже положила руку ему на грудь под сюртуком. Вот уже много часов ему хотелось дотронуться до нее.
– Я так полон. Сидни.

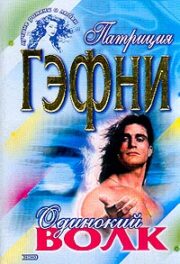
"Одинокий волк" отзывы
Отзывы читателей о книге "Одинокий волк". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Одинокий волк" друзьям в соцсетях.