Где теперь Марион? Далеко… Далеко — как что, пап? Очень далеко? Голос дочурки звучит у меня в голове… Да, это очень далеко… слишком далеко.
Еще комната, комната наших шалостей, наших ссор — эта надо мной смеется: «Что ж, можешь собой гордиться! Ну и чего ты добился? Выиграл и бродишь тут как неприкаянный. Но сам ведь этого хотел!»
Подушка Беатрис кажется мне печальной, заброшенной, так и слышу ее горькие упреки: «И все из-за какой-то книги, автор которой умер несколько тысяч лет назад, и его даже по телевизору не показывали… Ты-то думал, что его писанина и сейчас современна, но разве она стоила… стоила всего того горя, которому ты виной?»
Я вспоминаю рыдания Беатрис, о, сколько изящества было в ее рыданиях (она так мило, так изящно плачет, это плач высокого класса). Я вспоминаю об упорстве, с каким говорил: нет, нет, я не уступлю; о своем ослином упрямстве…
Помню, как, ложась спать на рассвете, я прислушался к дыханию рядом со мной — какое мерное дыхание, какой глубокий сон. Помню удивительное внутреннее спокойствие, чувство умиротворения, охватившее меня и заполнившее пустоту. Я переставал быть слабаком, нулем, никем. Я становился кем-то. Надо было научиться познавать себя… это целая программа, но она заранее меня радовала. Мне казалось: вот-вот начнется увлекательное приключение. Сон Беатрис ободрял меня: я был прав, сказав «нет» и настояв на своем. Это было жестоко по отношению к ней, ведь она к такому не привыкла, но она привыкнет и успокоится. Она всегда успокаивается. И я заснул, до конца примирившись с самим собой.
Помню, как проснулся утром совершенно спокойный. Спал я совсем мало, но так сладко… качеством моего сна словно бы компенсировалось его скромное количество.
Помню, как весело, с песенками, собирал Марион в детский сад. Помню, как играл во время завтрака, устроив морской бой внутри пиалы между добрыми и злыми кукурузными хлопьями. Добрые победили, но и те и другие закончили свои дни в желудке моей дочери, которая за время битвы — спасибо напряженному ожиданию! — совершенно забыла, что наотрез отказывалась есть.
Помню, когда мы выходили, меня окликнула Беатрис: «Бенжамен, задержись на минутку, пожалуйста». Голос был обычный, громкий и уверенный, но это «пожалуйста» меня встревожило, как тревожит предчувствие…
Успеваю шепнуть: «Подожди здесь, мое сокровище, я зайду к маме» — и тороплюсь к ней.
— Что?
— Бенжамен, то, что ты сделал вчера вечером, очень серьезно. Ты пожалеешь об этом.
— О чем?
— Я не могу тебе позволить так со мной обращаться!
— И что?..
— Прекрати повторять свое «что»! Это невыносимо!
Мог бы понять, что…
— Бенжамен, мне надо все обдумать. Я…
— Послушай, нам пора идти, может быть, мы позже поговорим?
— Хорошо. Сегодня вечером я сообщу тебе о своем решении. И тебе не удастся слинять. Ты его выслушаешь, нравится оно тебе или нет. И подтвердишь, что до тебя дошло.
— Может, еще и повестку заказным письмом пришлешь? С уведомлением о вручении.
Она пожала плечами, и я ушел.
Помню, как на пути в садик я сжимал руку Марион, как слушал ее звонкий голосок, как мы вошли, как я снял с нее курточку и сказал ей все то же, что всегда, помню, как ужасно был напряжен, когда все это проделывал. Чувства переполняли мое сердце.
Я молча прижал девочку к себе. У меня больше не было слов, их потребовалось бы слишком много. Как сказать ей о такой большой любви…
Я обернулся — она махала мне рукой, и, когда она улыбнулась, я почувствовал, что мои губы повторяют ее улыбку.
Мне вспоминается этот странный день. Эме поздравил меня с успехом: «Ты научился говорить “нет”, говоришь именно так, как надо, — спокойно, никому не в обиду. Не знаю, отдаешь ли ты себе в этом отчет, но и твои отношения с людьми тоже выровнялись».
Вот уж чего не заметил. Более ровные отношения? Смешно. Можно умереть от хохота. Но откуда бы ему догадаться? Ничего ему не рассказываю, зачем? Разве кто-нибудь может меня понять? О таких вещах не говорят…
Я думал о своем, я думал о решении, которое мне предстоит выслушать и подтвердить, что до меня дошло.
Утром я позвонил Беатрис, но телефон надрывался в пустоте. В обед ее тоже не было дома. И после обеда. Мне казалось, она сидит у телефона и нарочно не берет трубку. Или ее на самом деле нет?..
День тянулся ужасно долго, чудилось, будто каждый следующий час длится дольше предыдущего. Бесконечный обратный отсчет.
И этот страх — резкий, как почечная колика, этот страх, что, вернувшись, я не увижу Марион.
Она была дома.
Она была дома и сияла от радости.
— Папа, мы едем в путешествие!
— Вот как? И куда же вы едете?
— К бабуле!
Я не спрашиваю, о какой бабуле речь. Я понимаю.
— А ты не приглашен, Бенжамен.
Беатрис выходит из ванной с дорожной сумкой в руке и с приговором на губах:
— К твоему сведению, мне удалось достать на завтра два билета на самолет.
— На завтра?
— Да, у Одиль есть подруга, директор турагентства, она нашла для меня места.
Ненавижу Одиль. У этой женщины слишком много друзей.
— Бенжамен, выслушай меня хоть раз. Мы уезжаем на месяц, разлука пойдет нам во благо.
Вот оно, решение!
Я подтверждаю, что до меня дошло. Но неубедительно подтверждаю.
А садик? Садик не проблема, Беатрис с воспитательницей подружки, та очень гордится, что среди родителей в ее группе есть автор детских книг, и этот автор приходит читать детям свои рассказы, и «можно абсолютно доверять» этому автору, когда этот автор обещает поддерживать связь с садиком во время отсутствия ребенка.
— Пап, мы берем с собой домашние задания.
Домашние задания? Уже?
Помню наш странный ужин. Беатрис говорит с Марион так, будто меня не существует. Рассказывает, что они будут делать, куда поедут. И как это будет здорово.
Марион была слишком мала, когда ездила в Гваделупу, и, конечно же, ничего не помнит. Тесть с тещей обычно прилетают в метрополию несколько раз в год. Они сохранили за собой небольшую квартирку, и это избавляло нас от необходимости селить их у себя на долгие недели… Помню, как Беатрис говорила: «Бенжамен, я все равно не смогу жить с матерью под одной крышей, главное, не предлагай ей останавливаться у нас!» Как же она теперь перенесет совместное существование?
Беатрис объясняет, вдается в подробности, восклицает… Можно подумать, что рассказывает сказку.
Она избегает меня, избегает моего взгляда. Как будто меня нет. Но говорит все это именно для меня. «Вот увидишь, как нам там будет хорошо, тебе и возвращаться-то не захочется!» Я слушаю и расстраиваюсь.
А малышка заинтригована, она задает вопросы, ее глаза блестят. К концу ужина дело сделано: ребенок в восторге.
И уже у кроватки:
— Жалко, пап, что ты не хочешь ехать с нами…
Отвечаю, что не могу сейчас ехать, что я сейчас не в отпуске, иначе, конечно же, поехал бы с ней.
Помню, что, глядя на то, как Марион складывает ручки на подушке и пристраивает на них голову, я подумал: вот этот жест я никогда не забуду, он всегда будет стоять у меня перед глазами, я сохраню его навсегда и никто не сможет его у меня отнять.
Помню, потом мы выясняли отношения.
— Бенжамен, я приняла это решение, чтобы ты все обдумал. Ты поймешь, что такое одиночество. Это послужит тебе уроком: оценишь преимущества семейной жизни. И может быть, когда я вернусь, будешь по-другому вести себя со мной.
Я продолжал молчать, и она утратила свой учительский тон. Урок закончился.
— Скажи, что ты думаешь. Ты понимаешь, что я хочу сказать?
Помню, в тот момент во мне что-то произошло, как будто щелкнуло. Это не я ей отвечал, или, может быть, это говорило мое новое «я». Непривычное и для меня самого удивительное.
— Что я об этом думаю? Думаю, что это шантаж. Понимаю ли? Да, я понимаю, что ты мне мстишь.
— Бенжамен, как это мелко! Я в тебе разочарована! Да я же просто пытаюсь найти варианты, при которых мы бы стали… стали прежними. Чтобы нам было хорошо вместе…
Помню, как вслед за этим ее голос смягчился, она обняла меня за шею, потрепала по щеке и прошептала мне на ухо, как секрет, как признание в любви:
— Бенжамен, я хочу, чтобы мы любили друг друга. Хочу, чтобы мы были настоящей семейной парой.
Это было сильнее меня. Я высвободился, посмотрел на нее, и слова нашлись сами собой:
— Ты не хочешь, чтобы мы были семейной парой, ты хочешь мной командовать.
Я думал, что от потрясения она упадет в обморок. Она побледнела и стала озираться по сторонам так, будто потерялась и не понимает, где находится.
Потом пришла в себя.
— Объясни, пожалуйста, Бенжамен! Объясни!
Но я уже все сказал и устал.
Я пошел спать.
Помню, потом я слышал, что она плачет, но мне не хотелось ее утешать.
На следующий день они уехали. Я едва успел попрощаться с Марион.
Я вспоминаю…
Я вспоминаю все и рассказываю об этом подушке Беатрис. Однако подушка слушает равнодушно. И продолжает упрекать меня в одном и том же: «Видишь, что ты наделал! Довести до слез такую красивую женщину! И тебе не стыдно? Она такая чувствительная, такая хрупкая…»
Мне ясно, конечно, что подушка на стороне Беатрис, ведь это же ее подушка. Нет, ты все-таки выслушай меня, ведь я прав: она увезла Марион, она жестока по отношению ко мне, и если я не рыдаю по всякому поводу, это же не значит, что у меня нет чувств… Ты понимаешь?
Но эта глупая подушка упряма как ослица: я — злодей, Беатрис — жертва, и с этого ее не собьешь.

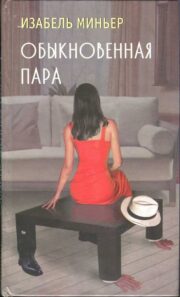
"Обыкновенная пара" отзывы
Отзывы читателей о книге "Обыкновенная пара". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Обыкновенная пара" друзьям в соцсетях.