Переодеваясь к обеду, Чип в сотый раз задал себе этот вопрос и пожалел в душе, что перемена в Джоне совпала как раз с их каникулами. Это помешает наслаждаться от души.
По дороге вниз он заглянул к Джону. Тот как раз собирался выйти из комнаты.
Он держал в руке несколько писем. Одно из них протянул Чипу.
— Это тебе, — сказал коротко. — Оно было вложено в письмо, которое мать написала мне из Шербурга. Она пишет, чтобы я передал его тебе, если захочу. Отдаю, как видишь. Но не стоит читать сейчас, прочти лучше вечером в твоей комнате, а завтра потолкуем.
— Ладно, — отвечал Чип, пряча письмо в карман.
Обед был подан в трапезной. На каменном возвышении, где когда-то во время трапез один из монахов читал вслух жития святых с целью создать высокое настроение при выполнении такого низменного акта, как еда, теперь два скрипача и виолончелист исполняли вещи Дебюсси и Финка. Мадам Ройян, бледная и восхитительная, в платье, составленном из полос черного тюля, плотно обернутых вокруг ее фигуры вплоть до стройной белой шейки, беседовала с Джоном, перегибаясь через свой стол, находившийся по соседству со столом, за которым обедали Джон и Чип.
— Меня занимает этот контраст, — говорила она. — Представьте себе трапезную двести лет назад — и сравните с нынешней картиной!
Джон, в своем воображении плывший на «Лузитании» за много миль отсюда, с усилием вернулся к действительности и сделал попытку принять участие в разговоре. Чип казался очень веселым. Его зубы все время так и сверкали в улыбке, загорелое лицо дышало оживлением. Джон предоставил ему поддерживать беседу. Его ни капельки не интересовало прошлое монастыря, его интересовало только собственное будущее.
Он думал, что лучше было бы, если бы мать не написала ему совсем. Он догадывался о содержании ее письма к Чипу. В своей записке к нему, Джону, где каждая строчка дышала скрытой нежностью и где не было ни тени обиды или боли, она написала: «Я знаю, что Чип с тобой сейчас. Пожалуйста, отдай ему прилагаемое письмо, если ты найдешь, что это может несколько смягчить для тебя создавшееся положение. В письме я немного объяснила Чипу все дело».
После обеда Джон один вышел в закрытый сад за обителью, представлявший собою просто обширную, покрытую травой лужайку, закрытую со всех четырех сторон стенами домиков монсеньоров. Лужайку окаймляли низенькие груши, а в центре ее находился глубокий пруд, где плавали золотые рыбки, тусклыми огоньками мелькая в мутноватой воде. В этом саду все дышало миром давно отошедших веков. Только чей-то смех, слабо доносившийся издалека, порой нарушал тишину. Прозвенел один раз где-то внизу, в долине, колокольчик. И снова сонная тишина.
Джон все еще пытался трезво обдумать то, что произошло. До признания матери весь уклад окружающей жизни казался ему именно таким, каким должен быть. Существовал какой-то кодекс морали, и никому из людей уравновешенных и счастливых не приходилось иметь столкновений с ним. Под «столкновениями» с этими законами морали Джон понимал всякую внезапную безрассудную страсть — любовь или ненависть — все, что нарушало обычный, так нравившийся ему порядок. Когда что-нибудь толкало его на более конкретные размышления об этих вещах, он приходил к заключению, что мужчина, бросая женщину или компрометируя ее в обществе, делает «изрядную гнусность». Этого «не полагалось делать». Он составил себе определенное мнение и считал, что «над такого рода случаями» нет надобности больше раздумывать.
Но, благодаря одной коротенькой фразе, сорвавшейся с губ матери, «такого рода случаи» превратились для него в один частный случаи, невероятный — и все же вполне реальный.
И так как это его родная мать заставила его от отвлеченных рассуждений перейти к конкретному выявлению своего отношения, — Джон чувствовал себя сильно уязвленным. Он был в положении судьи, которому приходится судить родного сына, — а его молодость делала его судьей жестоким. Мать, которую он никогда не мыслил, как что-то отдельное от него, Джона, вдруг стала женщиной, одной из женщин, которых надо было рассматривать со стороны. В этом различии было что-то задевавшее его юношескую гордость, был весь трагизм слепого непонимания.
Женщины не играли до сих пор никакой роли в жизни Джона. Для него это были невесты, приятельницы или сестры других мужчин, его товарищей по колледжу — девушки, с которыми он играл в гольф, веселился, танцевал и которые все казались ему привлекательными, потому что не было той единственной, которая заслонила бы всех других. Эти девушки были теперь вычеркнуты из мира его представлений. Они перестали существовать.
В юности, если человека больно задеть, его непонимание превращается в осуждение. А осуждать того, кого любишь, — мука. Осуждать, если раньше почитал и преклонялся, — больше, чем мука. Непреклонный дух Джона корчился в огне этого осуждения; он инстинктивно стремился убежать от него к целительному покою понимания.
Но у всех выходов стерегли его вопросы, на которые не было ответа. Почему мать вступила в брак с человеком, которого не любила? Если не было любви, значит, были какие-нибудь другие, менее достойные побуждения? Почему она, обнаружив свою ошибку, не попыталась примириться, пережить это как-нибудь? Почему, решив вместо этого освободиться, она согласилась связать себя новым союзом?
В нем все неистово протестовало против данного ею объяснения. Он вспоминал, как она сказала, что жила для него, но не мог увидеть в этом самоотречения. Посвящая ему все эти годы, она только заглаживала свою вину перед ним, исполняла обязанность, платила долг. Искупление дало ей, в конце концов, облегчение и освобождение. Джон остро чувствовал все неблагородство своей жестокости, осуждая себя за то, что, понимая, как должна была страдать мать, он не сочувствовал ей. Но самоосуждение, внося разлад в душу, не смягчало, однако, ожесточения против матери.
Он не способен был отрешиться от эгоизма, и это мешало ему понять и простить. Если бы юность не была эгоистична, жизнь в этом полном горя мире была бы немного легче. Но юность беспощадна, она отказывает в отпущении греха и с наивной жестокостью спрашивает: «Как вы могли?!» или с пытливой настойчивостью: «Почему вы сделали это?»
Они считают, что если вы согрешили, то должны это искупить, и что изнемочь под тяжестью расплаты — малодушие. Поддержка же их будет заключаться в том, что они присмотрят, чтобы вы расплатились как следует, сполна.
Если бы мать какой-нибудь практической оплошностью лишила его жизненных удобств, испортила ему карьеру, гордость Джона не страдала бы, его душевное равновесие не было бы грубо нарушено, как сейчас. Словно кто-то исхлестал его душу, и жгучая боль от рубцов не давала покоя.
Он услышал шаги, сначала громкие, потом заглушенные травой. Показался Чип.
— Джон! — позвал он.
Джон вышел из густой тени деревьев.
— Что? — откликнулся он неохотно.
— Да знаешь ли ты, что уже первый час! Я поднялся в твою комнату, искал тебя по всем коридорам. Потом дожидался у тебя, Бог знает, сколько времени.
— Неужели? Ну, что же, прочел письмо моей матери?
— Да, там, в твоей комнате.
— И что ты думаешь обо всем этом?
— Думаю, что она, наконец, будет счастлива, и ужасно рад за нее, — отвечал решительно Чип.
Джон отрывисто засмеялся.
— И больше ничего?
— Этого я не сказал, — возразил Чип спокойно.
Он остановился у каменного парапета маленького пруда, который казался теперь кругом черного мрамора, вделанным в рамку тусклого серебра.
— Отчего бы нам не разобраться во всем этом хладнокровно?
— Разобраться! — с горечью повторил Джон. — Как будто я именно этого не делаю все время, не напрягаю все силы, чтобы быть хладнокровным! А между тем не могу отогнать вопросы, недоумения, возражения…
— Да относительно чего же?! — спросил Чип, набивая трубку и зажигая ее. Огонек спички на миг осветил его спокойное склоненное лицо.
— О Господи! — разразился Джон, теряя всякую власть над собой. — Ты не видишь, против чего тут протестовать, о чем вопить, когда вдруг в один прекрасный день вся жизнь человека оказывается перевернутой, все, во что он верил, искажено. Неужто ты не можешь понять, что все обычные здоровые интересы в жизни стали для меня чем-то совершенно незначительным, ненужным, и я словно очутился в новом мире, где происходят чудовищные вещи, где нет больше ценностей? Я выброшен вон…
— Выброшен в жизнь, и отлично, — подхватил Чип. — Скажи-ка, что тут играет главную роль? Воображал ли ты слишком много о жизни, с которой сейчас столкнулся впервые? Возможно, ты боишься, что поступок твоей матери возбудит толки, расшевелит прошлое — и правда выйдет наружу? Или ты так терзаешься оттого, что твоей любви к матери нанесен удар? Первое — такая жалкая ерунда, что не стоит и говорить об этом, а второе… второе… тут все зависит от того, насколько сильна твоя любовь к матери.
— Да, тебе легко рассуждать, — сказал Джон резко, — когда дело касается не тебя и не твоих родных.
— Это почти то же самое, — заметил Чип просто. — Мы с тобой товарищи, а твоя мать своим письмом показала, что доверяет мне. Боюсь, все, что я говорил, вышло похоже на проповедь — и прескверную проповедь. Я этого не хотел. Не можешь ли ты объяснить толком, что, собственно, так мучит тебя?
— Что меня мучит? Да то, что жизнь — это какой-то мерзкий фарс, что моему, как ты это называешь, «преувеличенному понятию» о ней нанесен тяжелый удар! Могу только сказать, отвратительнее положение трудно придумать, а там предоставляю тебе делать дальнейшие, такие же остроумные, как сейчас, догадки об истинном характере моих переживаний. Твое дело — сторона, ведь дело идет не о тебе, не о твоем имени. Ты не знаешь, каково это, когда вдруг все счастливые годы начинают казаться чем-то пустым и ненужным. Все, все — пустой мираж, ничего не стоит. И унизительно то, что оно все же причиняет мне боль! Меня держали в неведении столько лет, а теперь я вдруг узнаю, что… И любовь моей матери к Вэнрайлю, и ее любовь ко мне кажется мне такой… неполной. Она постоянно жертвовала одним из нас ради другого, и вот мы оба — обделенные. Неужели ты не замечаешь, как мне ненавистна вся эта история? Вообрази себя на моем месте! Вдруг, как снег на голову, сваливается на тебя неизвестный тебе отец! Все это так нелепо — и до омерзения мелодраматично.

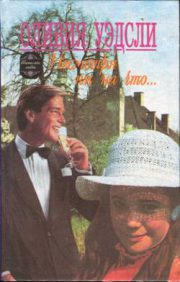
"Несмотря ни на что" отзывы
Отзывы читателей о книге "Несмотря ни на что". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Несмотря ни на что" друзьям в соцсетях.