— А подумал ли ты о матери и о том, что ее ждало в будущем? — спросил Чип медленно. — Ты сурово критикуешь… Ну, хорошо, допустим, все это очень дурно, — а что же было бы хорошо по-твоему? Чтобы мать отказалась выйти замуж за Вэнрайля, переехала с тобой в Лондон и жила по-прежнему только твоей жизнью, пока ты не женишься? Конечно, эта блестящая возможность у нее была! Это — участь большинства женщин, у которых имеется один сын. Но обыкновенно у них имеется и муж, который заботится о них, составляет им компанию и все такое. Конечно, твоя мать могла бы найти себе в Лондоне какие-нибудь занятия, собственные интересы, обзавестись друзьями, но, если бы даже так, — она, думается, была бы порядком одинока…
Джон сухо засмеялся.
— Ты рассуждаешь очень здраво, но извини, если замечу вот что: ты берешь только следствие поступка, но ведь независимо от того, каково следствие, имеет значение и сама его сущность. Вот она-то меня и волнует.
— То есть, ты хочешь сказать, что не можешь простить матери ее любви к Вэнрайлю? Так?
— Простить? Ну, это слишком сильно сказано. Но, Господи Боже, пойми же, Чип, — родная мать! Трудно примириться, когда такого рода вещи…
Чип молчал и смотрел на Джона широко открытыми глазами, забыв о своей трубке и машинально перекладывая ее из одной руки в другую. Когда он, наконец, заговорил, его голос звучал как-то странно:
— Так вот что тебя мучит, возмущает твои чувства современного рыцаря, оскорбляет требования морали? Это ты кипятишься потому, что твою мать и Вэнрайля связывала любовь, которую осуждают в обществе? Так? Я попал в точку?
Тут Чип, обычно далеко не отличавшийся красноречием, заговорил вдруг с непривычной для него горячностью:
— Да сознаешь ли ты, какой ты сноб? Сноб в морали, клянусь Богом, — а это самый вульгарный вид снобизма! Если ты действительно чувствуешь так, то, значит, я до сих пор не знал тебя. Твоя мать отдала тебе все, отказалась от всех других привязанностей, целый ряд лет провела вне жизни — и все это добровольно, ради тебя. Человек, любимый ею и любивший ее, покорился и не пытался повлиять на нее. Человек, который способен двадцать шесть лет дожидаться женщины, любит ее по-настоящему, можешь быть уверен! Эти двое потеряли ради тебя все свои молодые годы, которые могли быть такими чудесными! Они, может быть, проживут еще вместе много лет, но те годы для них уже не вернутся. Вот что они подарили тебе! А ты смотришь на их любовь, как на что-то постыдное! В мире нет ничего красивее самоотречения. Твой отец и мать проявили его — и уж это одно может примирить со многим. Вспомни обстоятельства, при которых они встретились, силу их любви, вспомни, какой дорогой ценой они заплатили за свое короткое счастье, — и если их не оправдает людской суд, то это плохая для него рекомендация! Всем нам в молодости хочется быть счастливыми, а не упражняться в добродетели! Это кажется ужасной ересью, но на деле оно не так. Кто может противиться жажде счастья? А мать твоя была так молода, и у нее жизнь сложилась так печально… И этот Вэнрайль, должно быть, ее обожал, ведь всю жизнь оставался ей верен. Будь я проклят, если вижу что-нибудь дурное в том, что они потянулись друг к другу. Все дело в том, какого рода любовь связывает двух людей. Если взять факт сам по себе, подчеркнуть все «против» и зачеркнуть все «за», то оно, конечно, выходит дурно. Если люди лгут и прячутся и смеются над теми, кого обманывают, — тогда это гадость и позор; но если эта любовь подвигает людей на то, на что решилась твоя мать, — то, я думаю, ни один кальвинист не осудил бы ее. А ты — ее сын, который ей всем обязан!
Джон начал было что-то говорить, но остановился. Голос звучал хрипло.
Чип говорил себе: ну, кажется, на этот раз клюнуло!
Молчание было, наконец, прервано Джоном.
— Да… значит, вот как ты смотришь на это? — заметил он самым простым и мирным тоном. — Однако, я думаю, нам пора идти в дом.
В монастырских коридорах горело электричество. Свет, пробиваясь наружу, рельефно выделял кружево резьбы на фоне темного неба. Сонный привратник пробормотал невнятно: «Доброй ночи», когда молодые люди проходили мимо.
В ярко освещенной передней Чип посмотрел на приятеля. Джон быт немного бледен, глаза смотрели жестко. Он вытащил папиросу и закурил.
— Моя комната дальше твоей, вон в той стороне, — сказал Чип, остановившись на ступеньках каменной лестницы.
Джон кивнул на прощанье.
— Хорошо. Не трудись ждать меня. Спокойной ночи!
— Спокойной ночи, — отвечал Чип и стал медленно подыматься по ступенькам.
«Ну и наговорил же я ему разных неудобоваримых вещей! — мысленно упрекал он себя. — Они, должно быть, встали парню поперек горла».
Он вошел к себе в комнату и остановился у открытого окна. Джон был не единственным его другом. С Чипом все скоро сходились на короткую ногу. Но Джон был самым близким из друзей.
Он тихонько насвистывал, заглядевшись на тихое озеро, на неподвижные деревья, продолжая вспоминать разговор с Джоном.
Чип не собирался говорить того, что сказал. Ему и теперь было не совсем ясно, зачем сказал все это. Подобно Джону, подобно многим мужчинам, он инстинктивно избегал говорить о чувствах и никогда не занимался вопросом о тех внезапных бурных страстях, что порою, как вихрь, подхватывали и уносили два нормальных человеческих существа в рай, где они забывали об окружающем мире.
Но Чип смутно чувствовал, что мать Джона ожидала от него больше, чем простого дружелюбия. Он прочел этот призыв между строк ее письма. Ему вспоминалась Ирэн Теннент в парке Аира, в салоне за роялем, вспоминалось, как она выходила навстречу ему и Джону, когда они приезжали из колледжа, — и эти воспоминания говорили больше, чем могли бы сказать ее слова. Именно они и вдохновили Чипа на то, чтобы, рискуя потерять дружбу Джона, высказать ему все, что он чувствовал.
Джон ужасно удивил его. Он всегда казался человеком с таким широким взглядом на вещи, он, хоть и посмеивался над самыми «крайними» убеждениями, но всегда терпимо относился к ним. А теперь проявлял полную нетерпимость — и это несмотря на всю любовь к матери!
Чип, который был немножко тугодум, все ворочал и переворачивал в мозгу на все лады этот изумлявший его факт.
Нет, решил он, Джон просто недостаточно любит мать. Этим все объясняется.
Чип, наконец, отвернулся от окна. Зажег электричество и уселся писать ответ миссис Теннент.
Но тут оказалось, что не так-то легко выразить в словах то, что хотелось сказать. Он старался изо всех сил, начал и разорвал три письма, пока, наконец, четвертое было благополучно доведено до подписи. Но и оно только послужило материалом для пятого и последнего варианта. В результате всех этих трудов увидело свет следующее коротенькое послание:
«Дорогая миссис Теннент!
Вы оказали честь, написав мне. С Джоном, насколько могу судить, все обстоит вполне благополучно. Он поедет со мной обратно в Лондон после того, как мы пошатаемся по Италии. Лей Коррэт, его учитель, написал, что хочет предоставить ему должность. Хочу вам сказать (но я не мастер изъясняться), как безмерно я доволен, что вы будете счастливы. Если бы я вздумал написать все поздравления и пожелания, какие мысленно шлю вам и судье Вэнрайлю, то пароход бы не был в состоянии довезти это письмо. Вот в каком я восторге по поводу вашего замужества! И надеюсь, когда я приеду в Нью-Йорк, вы разрешите мне навестить вас; если же вам доведется быть в Лондоне, то вы известите меня. Мы с Джоном завтра собираемся в интересную экскурсию в горы.
Искренно преданный вам
Фолькнер Тревор».
Письмо это дошло до Ирэн в Сан-Антонио на третий день после венчания. Она и Вэнрайль стояли на веранде дома, временно предоставленного в их распоряжение приятелем. Горы вдали были одеты аметистовой дымкой. Ближе расстилались поля, и каждый колосок, каждый цветок как-то особенно четко и прозрачно вырисовывался в льющемся на землю бледном золоте умирающего заката, сменившем пламенные его краски.
В этом радостном блеске вокруг была безмятежность, было какое-то обещание. Вэнрайль смотрел на жену, читавшую письмо. Он видел, как на ее лице сменяют друг друга румянец и бледность: письмо, очевидно, от Джона или касается Джона. Он отвел глаза и снова загляделся на чудесную картину вокруг, наклонясь немного вперед, опершись красивыми, сильными руками на широкие перила.
Он чувствовал, что не может, не должен следить за выражением ее лица во время чтения, словно подслушивая ее мысли. Ирэн намеками дала ему понять, как отнесся Джон к их истории. Но в ее молчании он угадывал многое, чего она не сказала.
Он продолжал курить, заглядевшись на пурпурный цветок, пробившийся из-за решетки возле его руки.
Слышно было, как шелестела плотная бумага в руках Ирэн. Потом стало совсем тихо.
Вэнрайль поднял глаза от цветка, обернулся и посмотрел в лицо Ирэн. В нем вспыхнуло вполне естественное раздражение против Джона. Ради этого мальчика он отошел когда-то в сторону, уступил ему место, а теперь Джон мешает ему быть счастливым.
Он знал, что сейчас с ним встретится взглядом не его жена, а мать Джона.
На одну секунду он почувствовал слепую ревность к Джону, Джону, который взял все, а теперь ничего не хочет отдать.
Он вспомнил годы одиночества и пустоты, эти мучительные, коротенькие свидания раз в год, свидания, которые, казалось, состояли из одного только прощания. И все это из-за Джона! Он, Вэнрайль, глубоко любя Ирэн, покорялся ее решению. Но самоотречение было не в его натуре. Он желал, наконец, вознаградить себя за него. Для Джона дорога была проложена, сделано все, чтобы его жизненная карьера была успешна…
Под влиянием этих мыслей Вэнрайль беспокойно задвигался. Ирэн подняла глаза, улыбнулась ему и протянула письмо.
— Это — от товарища Джона, — сказала она и, подойдя к мужу и присев на ручку его кресла, прислонилась щекой к густым седоватым волосам. Так она сидела, пока Вэнрайль читал письмо.

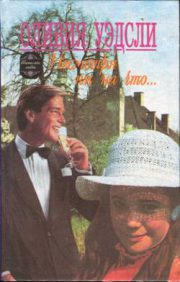
"Несмотря ни на что" отзывы
Отзывы читателей о книге "Несмотря ни на что". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Несмотря ни на что" друзьям в соцсетях.