— Но мои глаза — это ваши глаза, Андреас! — ей стало совсем больно.
— Да?.. — спросил он вдруг тихо, доверчиво, беззащитно.
Очнулся на миг, посмотрел на нее жалобно.
И тотчас вновь помутился разум.
— Вы ведьма, — говорил он резко, четко, лихорадочно, — Вы — наложница фараона! Я узнал вас!.. Я знаю, мне говорил ваш отец… Вольф сказал моему отцу, я знаю… он сказал: «Не женись на этой наложнице фараона и дочь ее в жены не бери, потому что она — это и есть она!»
Сафия удивилась как-то уныло. Разве ее отец рассказывал такое Андреасу? Нет. Или рассказывал? Но уже было все равно…
— Вы ведьма, — говорил Андреас. Вы — наложница фараона. Это вы! Я узнал вас…
Теперь она даже не могла заплакать. Сделалось такое оцепенение. Боялась остановить его, уходящего…
Андреас подошел к дому, в котором жил. Пасмурно было. Драконы водосточных труб обыденно раскрывали пасти. Сделалась тоска. Еще сильнее…
Он поднимался по лестнице. Лестница была прежняя. Все было прежнее. И неужели Андреас пережил совсем недавно то самое? И если пережил, то почему же теперь все такое прежнее и обыденное? Ведь все было! Ведь его жгли на костре, ведь он рассеял огромное войско… Зачем же теперь…
И дверь была прежняя, обыденная. Он будто возвратился в эту жизнь из какой-то другой жизни, возвратился во времени назад, и потому ничего не изменилось.
Он постучал в дверь.
Мать не спросила, кто это стучит, а просто чуть помедлила у двери, потом спросила тихо и с каким-то слабым изумлением:
— Андреас, это ты?
Она всегда так спрашивала, когда он возвращался позднее обычного, а она уже лежала в постели, и он открывал дверь своим ключом. Сейчас у него не было ключа. Но то, что мать спрашивала так, как прежде, не раздражило его сильнее, а даже чуть успокоило. И то, что он выговорил свой привычный тихий ответ, успокаивало его.
— Я, мама…
Он наклонился, наклонил голову; она прижала обе ладони к его щекам и целовала нос и лоб…
Это было так радостно, то, что он вернулся. Она даже не могла увидеть сразу, какой он, что с ним. Он был с ней, жив был, и этого было ей довольно… Но почему же такая тоска делается? Так буднично все и оттого тоскливо. И мать это не то чтобы поражало, но как-то сокрушало — эта обыденность и эта тоска от этой обыденности. Нет, она не ждала, что придет торжественная толпа и будут какие-то шумные приветствия, да Андреасу этого и не нужно… Но какие-то перемены… чтобы жизнь его стала чуть радостней…
Она так и не смогла уговорить его переодеться. И умыться он не захотел, волосы не вымыл. И что-то говорил громко о добре и зле, она после не могла вспомнить. Она упросила его сесть за стол в кухне, сварила яйцо и вынула из шкафа с посудой маленькую серебряную ложечку; подарили в день крещения Андреаса и она сберегла. И теперь она стала кормить его с ложечки кусочками яйца. Он сидел задумчивый, углубленный в какие-то свои мысли странные. Теперь молчал, но не противился, позволял матери кормить его. Он не знал, и мать не знала, что это его последняя трапеза.
Потом она напоила его с ложечки медовым отваром. Он сидел, подперев щеку рукой, молчал. Она осторожно потянула его за руку и тихо сказала:
— Пойдем, Андреас, я тебя уложу…
Он поднял на нее глаза и слабым голосом заговорил:
— Видишь, мама, солнце… Мама, мне плохо… Я, как ребенок, теперь, веди меня…
У него была лихорадка.
Мать подумала, что ей надо бежать за лекарем, но боялась оставить сына одного. Она решила, что сейчас уложит его, поможет ему домашними средствами, ему полегчает, и тогда она уже сможет оставить его ненадолго… Ею овладел какой-то странный страх, она боялась звать соседей, хотела почему-то (сама не понимала, почему это) скрыть от них возвращение Андреаса… может быть, это потому что он вернулся в таком состоянии… сама не понимала…
Она уложила его, укрыла, приложила примочки к его ранам и волдырям; он даже снял башмаки и разделся до рубашки. Она сама не знала, почему она отвела его в свою комнату и уложила на свою кровать.
Он немного поспал. После проснулся и снова стал говорить. Но что он говорил, мать не запомнила. Он и не обращался к ней; и ни к кому не обращался, говорил сам с собой. С постели не встал и говорил громко. Мать подошла к нему и потрогала его лоб своей маленькой ладонью — жара не было. Это немного успокоило ее.
— Тише, — сказала она почти сердито. — Не надо так громко говорить, уже ночь, — она прикрыла ему рот ладонью; сама не знала, не понимала, почему это сделала. Он не противился. Она почувствовала ладонью его все еще запекшиеся губы и быстро отняла свою ладонь от его губ.
Он замолчал.
— Сейчас я приготовлю ужин, покушаешь, потом еще поспишь, отдохнешь, — сказала она.
Все в городе знали, что люди Риндфлайша ушли, разошлись в разные стороны. Все уже знали. И мать знала. Она подумала, что из-за этой осады у нее так мало осталось съестных припасов, и огорчилась. И стала думать, как бы все же повкуснее накормить Андреаса. Но уйти на кухню она не успела.
Он быстро поднялся с постели, одеваться не стал, и начал быстро ходить по комнате. Внезапно и как-то странно останавливался у стены. Мать подходила к нему, брала за руку, осторожно отводила от стены и вела к постели. Но он высвобождался молча и снова принимался ходить по комнате. Затем легко и быстро лег на пол навзничь у кровати, раскинул руки и проговорил громко:
— Я — Распятый!..
Слово «Распятый» он произнес с такой мукой и высотой; и мать поняла, кем он себя полагает. Она смотрела на сына растерянно, тревожно, и словно бы и не изумлялась. И то, что она не изумлялась, было странно в ней.
Андреас тотчас встал с пола, быстро подошел к незанавешенному окну и сильно ударил обеими ладонями по стеклу. Мать поспешно обняла его за пояс и отвела от окна. Так они стояли посреди комнаты. Неподалеку от окна к стене был прикреплен подсвечник с двумя свечами, их маленькое пламя сильно колыхнулось.
Вдруг Андреас резко вырвался, бросился к двери, которая вела на лестницу. Дверь была заперта. Андреас бился о дверь лицом и руками, ударялся лбом. И все молча, ни слова, ни вскрика.
И мать не закричала; только из последних старческих сил пыталась оттащить его от двери, отчаянно обхватывая за пояс.
Наконец ей это удалось. Она прижала его к себе, совсем судорожно обняв за пояс и чувствуя больно, как его сердце учащенно бьется у самых ее глаз. Она почувствовала, что он немного расслабился, чуть успокоился, и отпустила его. На лице его были кровавые ссадины и синяки.
— Мама, помоги мне, — произнес он тихо.
Он теперь сознавал, что он болен, что ему плохо от болезни. Он осознанно просил о помощи. И у матери сердце зашлось от этой мучительной жалости к нему.
Она повела его к постели, он шел послушно. Она усадила его и сидела рядом с ним, обнимая его. Она пыталась собраться с мыслями и понять, что же ей сейчас делать, как помочь ему. Но какое-то жуткое ощущение страшной бездны их с сыном одиночества, почти одичалости, отделяло ее от людей. Это ощущение словно бы сковывало и притупляло все ее мысли и чувства. Она пыталась стряхнуть, оттолкнуть обеими, выставленными вперед ладонями это ощущение; но ощущение наваливалось, обволакивало…
— Нет, нет, нет, — громко произнесла мать. — Я помогу тебе, Андреас, я сейчас помогу тебе.
Она снова обняла его и после снова отпустила. Он, казалось, пришел в себя совсем. Она заметила, как поморщился он осознанно от боли, ссадины и синяки болели. И ей стало больно от его боли. И ее лицо сморщилось и она едва сдерживала слезы. Он приподнял руки, прижал ладони к вискам, уронил руки на колени.
— Мама, — заговорил он, и произнес слова с болью, — мама, я обидел ее. Она совсем одна. Мои глаза так похожи на ее глаза!..
И вдруг его голос переменился.
— Мама, ты видишь? — напряженно спросил он.
Но она не видела того, что видел он.
Он видел на стене, над свечами, темное существо; оно как-то прилепилось к стене тонко-когтистыми лапами. Хвост был длинный, как у крысы, голый; туловище звериное; гладкая шерсть короткая светлая сияла в полутьме, золотилась волосками. Но голова, голова была женщины, ее голова, наложницы фараона, госпожи Амины-Алибы. Голова богини, чей знак — знак разомкнутой нечистоты. И глаза были длинные с большими круглыми зрачками, страшно манящие и бессмысленные; глаза колдовской козы, волшебной коровы, зверя-кормилицы. Такое существо он видел прежде в книгах на рисунках. Оно было описано в книгах, там оно называлось: сфинкс…
Он повернулся к матери, посмотрел на нее и вдруг у него вырвалось странно-задумчивое:
— Мама, а ты не дьявол?
И мать поняла с ужасом, что вместо нее он видит что-то ужасное.
Нет, она одна не сможет ему помочь… Она вспомнила ярко, что он спаситель города. И разве этим спасением города не обрел он право на эту помощь людскую?..
— Потерпи еще немного, Андреас! Я помогу тебе. Я приведу людей. Ты спасешься. Потерпи, подожди… Нет, идем со мной!..
— Я подожду, — проговорил он обессилено, не глядя на нее, и закрыл лицо ладонями.
И она пошла быстро… звать людей…
Когда он посмотрел на мать… и вдруг увидел в сумраке, что у матери лицо обезьяны… вместо человеческого лица сделалось лицо обезьяны… лицо зверя… Он видел обезьян в книгах на рисунках, знал из книг… Он знал, что обезьяна — это игра; обезьяна — таинственное пересечение, сопряжение Искусства и Природы… Искусство — «обезьяна Природы», simia naturae?..
Но внезапное в сумраке лицо обезьяны вместо лица матери… И он знал, что это все равно его мать, даже с таким лицом!.. Ужас… не мог вскрикнуть… Как вырвался тот жуткий вопрос, почему — не помнил. Но сам вопрос — помнил… Решился снова посмотреть на мать… С облегчением увидел, что у нее прежнее человеческое лицо… Вздохнул… Почувствовал себя таким разбитым… Что-то говорила мать… он что-то ответил ей, закрыл лицо ладонями, пригнул голову… Успокаивался… Уцепился за это слово: «Искусство». Это слово, это понятие вызвало мысль о Сафии, о ее коврах… Стал думать об этом. Ровное течение мыслей успокаивало…

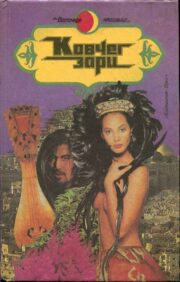
"Наложница фараона" отзывы
Отзывы читателей о книге "Наложница фараона". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Наложница фараона" друзьям в соцсетях.