Взрослые ели треску в масле, копченую жирную сельдь и вареную говядину, приправленную квашеной капустой. Все было вкусно приготовлено. Затем служанка подала круглые спелые яблоки на серебряном узорном блюде и легкое белое вино в голубом кувшине. Посреди стола поставлены были серебряные приборы в виде маленьких кораблей, в них насыпаны были соль, перец и корица; каждый мог по собственному вкусу приправить кушанье или вино. Сладковато-острый запах пряностей, сам вид изящных серебряных корабликов, вероятно, невольно пробудили в душе гостя какую-то мечтательность. Он задумался и словно бы на какие-то мгновения ушел в себя, почти не замечал, где он и кто с ним. Но из сидящих за столом только маленький мальчик почувствовал внезапное настроение гостя. Андреас решительно потянулся к Вольфу, тот улыбнулся почти машинально и взял мальчика на колени. Андреас пытливо, чутко и серьезно касался пальчиками его впалых одряблевших щек и вдруг быстро подавшись вперед всем своим легким худеньким тельцем и повернув головку, указывал вытянутым пальчиком на серебряные кораблики, и тотчас снова гладил колкие щеки гостя. Огромные черные глаза ребенка глядели пристально и ласково-тревожно, словно он понимал, что этот человек нуждается в утешении и сочувствии, и спешил подать ему искренне эти утешение и сочувствие. Больной усталый гость был тронут и несколько изумлен. Сначала он молчал, отвечая мальчику, словно равному, лишь благодарным взглядом. Затем бережно и нежно-нежно поцеловал детские пальчики и произнес смущенно, из одной лишь потребности хоть что-то сказать:
— Бархатные ручки…
Отец и мать смотрели молча. Они были достаточно умны, чтобы понимать, что эта способность тонко чувствовать, так рано раскрывшаяся, быть может, драгоценнее ума и красоты. Они и радовались и тревожились, сознавая, что именно это богатство чувств сделает их мальчика, одаренного и умом и красотой, особенно хрупким. Поэтому оба молчали. Но вот мать быстро взяла маленького к себе, поцеловала щечки и прижала ребенка к груди.
Элиас сказал, что велит слуге проводить Вольфа и донести его мешок. Но Вольф отказался поспешно и решительно. Элиас глянул на него и согласился с ним. Гость простился с любезной хозяйкой и посмотрел с невольной грустью на уснувшего у нее на руках мальчика.
— Погоди, я сам немного провожу тебя. — Элиас вышел в прихожую, где Вольф уже взвалил на плечи свой мешок и снова сделался мрачным, замкнутым и угрюмым.
— Проводи, — ответил он с хмурым равнодушием.
Они пошли рядом. Вольф думал о том, что Элиас Франк так и не дал ему обещанных денег для уплаты штрафа. Эта мысль колола душу, будто железная булавка, и заставляла видеть жизнь в черном цвете и полагать людей плохими, черствыми, бесчестными, злыми. Конечно, у Вольфа и прежде было достаточно поводов дурно думать о людях, но именно эта мелочь сейчас предельно усугубляла его чувства, он ощущал себя обиженным и беззащитным; кажется, с самого детства привык он подавлять подобные свои ощущения, желая чувствовать себя сильным и правым в отношениях с людьми. И вот теперь он вдруг казался себе таким беспомощным. Он вспомнил свою маленькую дочь, потом вдруг — сынишку-первенца, рано умершего, и слезы уже готовы были навернуться на глаза…
«Это все из-за мальчика…» — смутно подумалось.
Да, это маленькое хрупкое существо, такое чистое, чуткое и нежное, такое беззащитное, остро напомнило о несовершенстве жизни, о том, что и он, Вольф, несовершенен, дурен… Нет, нельзя ни в чем упрекать себя, надо всегда ощущать свою правоту в этом мире, иначе невозможно будет жить в нем и защищать себя…
— Ты, разумеется, в чем-то прав, — голос Элиаса заставил Вольфа чуть вздрогнуть.
Вольф понял, что Элиас решил вернуться к их недавнему разговору. Сейчас это возвращение не было Вольфу тягостно, наоборот, он сознавал, что это отвлечет его от неприятных мыслей. Он снова готов был противоречить Элиасу, противоречить задиристо и ворчливо, желая отомстить за это мелочное предательство — ни к чему обещать деньги, если не собираешься исполнить свое обещание!
— В чем же я прав?
Это уж, конечно, был вопрос самый риторический. Вольф прекрасно понимал, в чем именно Элиас полагает его правым. Но Элиас, казалось, не замечал ворчливых и задиристых интонаций Вольфа. Между тем, тот решительно преобразил свою риторику в сугубую конкретику:
— Я прав, когда утверждаю, что евреев преследуют, и что ты трус и заискиваешь перед мерзавцами!
Элиас скривил губы и покачал головой.
— Ну не будем вступать на старую тропу, мы уж порядком ее потоптали.
— А ты что! — Вольф пытался разогнуться, но тяжелый мешок не давал ему сделать это. — Ты что, снова начнешь толочь воду в ступе, рассуждать о справедливости и понимании?
— Оставь! Я только хотел признать, что ты в определенной степени прав…
— Я прав без всяких степеней!
— Повторяю: в определенной степени. Я не делал замечаний стражникам и я все равно вынес бы именно то решение, которое вынес. Но я учитывал некоторые обстоятельства…
Элиас замолчал. Вольф фыркнул и кашлянул, сплюнул. Он вдруг подумал, что в доме Элиаса, рядом с мальчиком, приступов кашля не было. Но сейчас эта мысль мешала спорить, и он поспешил прогнать ее.
— Обстоятельства! — Вольф глухо усмехнулся. — Знаю я эти твои обстоятельства. В том самом квартале возле городских ворот, где полным-полно всей этой пьяни, где судьей трус Гюнтер, и откуда родом этот маленький мерзавец Дитер; так вот, в том самом квартале к дверям церкви святого Иоанна приколотили пергамент, и на пергаменте этом нарисованы три иудея в остроконечных шапках, а рядом с ними — помост, и на том помосте — голый ребенок, весь исколотый, и девять ножей рядом нарисованы, и написано корявыми буквами: «Смерть ругателям Христа». Вот и все твои обстоятельства, из-за которых ты так перетрусил.
— Я боюсь не за себя. Мне-то ничего не грозит.
— Не за себя, как же! Я не говорю о твоих дочерях и внуках в еврейском квартале, все знают, ты по-своему к ним привязан и помнишь о них. Но боишься ты прежде всего за себя. Ты ведь будешь испытывать странное чувство гадливости, если начнут убивать иудеев. И в то же время тебе захочется, да, захочется, тобой овладеет желание, чтобы и тебя убили!
Вольф не стал возражать, но спросил осторожно:
— А какие желания овладеют тобой? И почему ты называешь эти обстоятельства моими? Разве они и не твои также?
— Нет, не мои. Я знаю, что преследования — это неизбежно, не строю никаких иллюзий, знаю, что мир четко делится на «мы» и «они», и знаю, что представляет собой мое «мы». Это ты все мечешься, ищешь путей взаимного примирения, возводишь воздушные замки и выдумываешь Бог весть какие выдумки. Ты не иудей и не христианин; я не знаю, что ты такое, какой-то отступник, еретик не от мира сего…
— Да, мне хочется быть человеком, не скованным цепями многих канонов и законов…
— Бредишь наяву!
— Ну хорошо, хотя бы немного нескованным, — Элиас рассмеялся.
Оба, пока говорили, испытывали странное желание как-то связать разговор с маленьким сыном Элиаса, заговорить о мальчике. Но оба чувствовали, что это будет больно. Элиас даже боялся, что Вольф все же заговорит нарочно, чтобы причинить ему боль. Вольф знал, что Элиас боится, и знал о себе, что такую боль он никогда не причинит Элиасу. Это знание вдруг возвысило Вольфа в собственных глазах, заставило его немного даже гордиться собой, ему хотелось быть великодушным.
— А, впрочем, ничего не будет, — вдруг проговорил он с видимой беспечностью. — Люди устали, они утомлены этими постоянными войнами и бесчисленными мелкими стычками последнего десятилетия, у них сейчас просто нет сил претворить свою ненависть и неприязнь в погромы и буйные преследования, — но Вольф все же не смог удержаться и добавил, — подождем, пока подрастут такие, как этот гаденыш Дитер.
Вольф и в самом деле так думал. Элиас был благодарен Вольфу за то, что тот не говорил о маленьком Андреасе. Поэтому Элиас подтвердил свое согласие с Вольфом короткой фразой, и некоторое время они шли молча. Быстро темнело. Со стороны реки задувал холодный легкий ветер. Они почти добрались до еврейского квартала.
— Пора мне возвращаться, — сказал Элиас Франк.
Голос его теперь звучал обыденно, а еще совсем недавно звучал иначе. Эта обыденность снова напомнила Вольфу о деньгах, обещанных Элиасом. Вольф ничего не говорил, но Элиасу стал ясен смысл этого нарочитого молчания. Сначала Элиас хотел просто отдать деньги, он и не собирался не исполнять своего обещания. Но при жене деньги отдавать не хотел. Не потому что она стала бы ему перечить; нет, не стала бы; но пришлось бы говорить с ней о суде, о мальчике Дитере, о еврейском квартале, а Элиасу не хотелось; пусть дома все будет так, как будто всех этих неприятных вопросов нет. Пока возможно, пусть все будет так. И допустим, кто-то способен обвинить Элиаса Франка в том, что он прячется от жизни. Но пусть тогда обвиняют и человека, который на грязной улице старается ступать по сухому, а не лезет напрямик в грязь.
Что-то в их начавшихся с Вольфом отношениях располагало к откровенности.
— Возьми деньги, — Элиас отвязал от пояса кошель, высыпал монеты на ладонь и протянул Вольфу. — Я понимаю, ты мог подумать, будто я уже не хочу исполнять свое обещание. Но вот деньги. Возьми.
Удерживая мешок одной рукой, Вольф взял деньги.
— Я и вправду подумал такое, — ответил он откровенностью на откровенность, — Прости.
— Я тебя понимаю. Жизнь нелегка.
— Не хочешь зайти ко мне? Я приглашаю искренне.
— Сегодня никак!
— А если завтра? Что-то мне неможется, пару дней побуду дома, никуда не двинусь. Зайди, очень прошу тебя.
Искренний просительный тон тронул Элиаса Франка.
— Хорошо. Завтра вечером зайду. Надеюсь, мне не придется так долго торчать в суде. Зайду еще засветло.

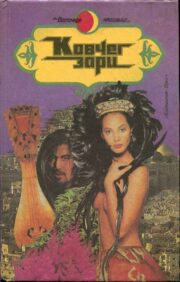
"Наложница фараона" отзывы
Отзывы читателей о книге "Наложница фараона". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Наложница фараона" друзьям в соцсетях.