«Смотри-ка, шизофреник, а соображает», — удивился Трубников.
— А вообще, — произнес Евгений как можно мягче, — на убийцу ты не похож. У убийц глаза неподвижные. А у тебя они всегда бегают. Я знал одного киллера. Он раньше ошивался в одном подвальчике на Таганке. «Харчевня» называется. Так вот, когда он входил в «Харчевню», все посетители затихали.
Колесников вздрогнул и ошеломленно впился в глаза.
— Слушай, — произнес он с ужасом, — ты сейчас слово в слово произнес первую строку из моего романа.
— Какого романа? — недовольно поморщился Трубников, подозревая, что лечения в психиатричке не миновать.
— Исторического. Про королеву Марго. Вот он у меня, под башкой! Возьми!
Трубников сунул под подушку руку и нащупал общую тетрадь.
— Как она у тебя здесь оказалась? — удивился он.
— Я, прежде чем перерезать вены, сунул роман под ремень, чтобы уйти вместе с ним. Потому что это самое подлинное, что есть во мне. Ты возьми, почитай!
— Ты что, написал роман? — спросил Трубников.
— К сожалению, нет. Я только начал его писать в восемьдесят девятом году, — грустно вздохнул больной.
— В восемьдесят девятом?
— Ну да! Ты помнишь, после девятого совещания мы ходили по издательствам со своими стихами, а нам везде говорили, что стихи теперь вряд ли будут печатать? Вот если бы вы принесли по историческому роману, тогда бы опубликовали без разговоров. Ну, я сразу после этого и сел за исторический роман. Но дописать не довелось…
9
«Считать ли это новой подлостью? — думал Трубников, катя по ночной Москве. — Хотя на первый взгляд ничего подлого не было. Ну, взялся человек писать исторический роман. Что тут криминального?»
Однако как взялся? Втихомолку, не посвятив друга в свои эпические замыслы. Правда, никто не обязан делиться своими творческими планами, но ведь когда они вышли из «Молодой гвардии», Трубников сам предложил:
— А давай напишем по историческому роману? Что нам стоит, талантливым и энергичным. Опубликуемся, прославимся, разбогатеем. После этого издатели сами будут бегать за нами с высунутыми языками.
В то время очень хотелось печататься. Ей-богу, на все бы пошел, лишь бы опубликовали. Однако Колесников сморщил нос и презрительно хмыкнул:
— Мы с тобой поэты или кто? Мало ли чего захотят эти тупые окололитературные крысы? Если каждому потакать, то грош нам цена как литераторам.
Трубников на сто процентов согласился с Колесниковым. Действительно, для того Господь и рождает поэтов, чтобы они противостояли обывательским потребностям толпы. Помнится, в ту минуту Евгений навсегда отбросил мысль об историческом романе. Однако Колесников опять слукавил. Пришел домой и сел за роман на потребу все тем же беспринципным издателям, о которых он отозвался с таким пренебрежением.
Остановившись у светофора, Трубников не выдержал, раскрыл тетрадку и прочел: «Когда он входил в харчевню, все посетители затихали. Женщины содрогались, а у мужчин моментально слетали улыбки».
Загорелся зеленый. Трубников нажал на газ и понесся дальше, раздумывая над тем, что человеческое желание быть первым, пожалуй, не стоит вносить в категорию подлостей. Это нормальное, здоровое желание! Колесников страстно хотел быть первым: первым отличником, первым чтецом, первым поэтом. Он мечтал первым издать книгу, первым прославиться, первым разбогатеть. В чем здесь подлость? Подлость в другом — что своего лидерства Диман всегда добивался окольными путями. Трубников даже знает почему: от недостатка таланта. Истинному таланту нет необходимости плести за спиной интриги. Истинный талант может себе позволить роскошь вести честную борьбу.
Войдя в квартиру, Трубников сразу направился в кабинет, на ходу кинув жене, что ужинать не будет. Настя проследовала за ним.
— Ты от Димана? Как он? — спросила она с тревогой в глазах.
— Так же, — неохотно ответил Евгений, устало валясь на диван.
— Ты ему сказал, что Маргулин жив?
Евгений поднял глаза на супругу и усмехнулся:
— Он и без меня знает.
— Тогда зачем он перерезал вены? — удивилась жена.
— Потому и перерезал, что тот, кого он убил, воскрес, смертью смерть поправ. От страха, в общем, перерезал.
На губах Трубникова появилась нехорошая ухмылка. Лицо жены, наоборот, вытянулось и приняло испуганное выражение.
— А как он выглядит? Совсем плохой?
— Вот как раз выглядит он нормально. Но как только заходит речь об Олеге, начинает трястись и бледнеть. Собственно, я с ним толком не поговорил. Зашел его сосед по палате, и мне пришлось убраться. Завтра я с ним поговорю более детально.
Настя покачала головой и вышла из комнаты. Евгений зажег торшер и, раскрыв тетрадь Колесникова, начал читать.
«Когда он входил в харчевню, все посетители затихали. Женщины содрогались, а у мужчин моментально слетали улыбки. Он вносил в это веселое заведение на окраине Парижа какую-то мрачную тяжесть, свойственную палачам и профессиональным убийцам. Его так и звали — Мрачный Шарль, хотя лицо его, если вглядеться, было довольно открытым. Его волосы были светлые, волнистые, лоб высокий, гладкий, брови прямые, глаза карие и совершенно неподвижные. Именно из-за этих глаз никто не решался вглядываться в него пристально. На губах его никогда не сияло улыбки. Говорил он коротко, почти не разжимая губ и все больше одной половиной рта. Он был высок, строен и немного тучен. Одет всегда во все черное: черный плащ, черный камзол, черная шляпа, и только на горле белела тоненькая полоска воротника его белоснежной рубахи…»
Трубников поднялся с дивана и подошел к зеркалу. В холодном стекле отразился высокий, стройный и немного тучноватый мужчина в черных брюках и черном джемпере, из-под которого выглядывал белоснежный воротничок. Странно, но стоящий перед зеркалом почему-то любил одеваться в черное. Трубников глубоко вгляделся в свои карие глаза и отметил в них необычную мрачность. То, что его глаза большей частью были неподвижными, об этом знали все, а вот врожденную мрачность в них не замечал никто, кроме самого хозяина. Кстати, эту дурацкую привычку разговаривать, не разжимая губ и все более одной половинкой рта, Трубников приобрел уже после того, как основал свое издательство, то есть в девяносто четвертом году. А роман? Когда же он начал писать роман? Ах да, в восемьдесят девятом.
То, что прочел Трубников, почему-то взволновало, хотя изложено было далеко не мастерски. Это Евгений не мог не отметить как профессиональный литератор. Однако эту средневековую харчевню на окраине Парижа он будто видел собственными глазами. И не просто видел, но даже чувствовал ее пряные запахи. А пахло в ней одним и тем же: парами бургундского и жареной гусятиной. Да еще потными шлюхами. Словом, полный шарман! Неужели тоже крыша едет?
Трубников скользнул ладонью по своей светлой шевелюре, гладкому лбу, по складке у рта и при этом заметил, что зрачки его по-прежнему остались неподвижными. Он подумал, что надо завязывать с этой черной одеждой, придающей ему мрачность.
Евгений подошел к окну. За окном мело и завывало. Сквозь снежную мглу по дороге неслись машины. «Тоска», — еле слышно прошептал Трубников.
10
Мрачный Шарль, входя в харчевню «Три гуся», обычно сразу следовал к одному и тому же столику в углу. Это был самый темный угол в заведении. По этой причине за него никто не садился. Но если кто и садился, то сразу при появлении Шарля поспешно перебирался в противоположный угол. Самый знаменитый убийца в Париже, переступив порог «Трех гусей», останавливался и некоторое время стоял на месте, как бы для того, чтобы перевести дух. На самом деле он давал возможность тем, кто сидел поблизости от его столика перебраться за другие столы не так панически. После чего неспешно и ни на кого не глядя следовал в свой угол, садился и замирал, уставясь в одну точку. Тут же подлетал хозяин, ставил перед ним кувшин бургундского и спрашивал:
— Как всегда, запечь гуся?
Шарль мрачно кивал, не глядя на хозяина, и хозяин тут же исчезал. Через некоторое время он приносил скворчащую яичницу, обильно посыпанную луком, и ломоть черного хлеба. В ожидании гуся, Шарль молча пил вино и не спеша ел яичницу. Он никогда ни с кем не разговаривал, никогда не играл в кости и никогда не вмешивался в разговоры. Отужинав, он молча кидал на стол золотой и сразу удалялся, не обращая ни на кого внимания. Вся харчевня облегченно вздыхала, и тогда в «Трех гусях» начиналось истинное веселье. На музыкантов нападало вдохновение, красотки принимались выплясывать и хохотать, а мужчины — затевать драки.
О чем речь? Мрачного Шарля боялись все, кроме кудрявого весельчака Пьера. Он был мелким воришкой и страстным игроком в кости. Пожалуй, Пьер был единственный, кто позволял себе громко кричать и затевать ссоры при Шарле. Но если бы только ссоры. Однажды, проигравшись до нитки в кости, он бесстрашно подошел к известному убийце, который только что вгрызся в жирную тушку гусыни, и нагло попросил франк. Шарль остановил на нем свой тяжелый взгляд и, не произнеся ни слова, кинул на стол монету.
В тот холодный зимний вечер Шарль зашел в харчевню засветло. Так рано он не приходил никогда. «Должно быть, ближе к ночи, его ждало какое-то дело», — подумал Пьер, сидящий в одиночестве за дубовым столом. Он перебирал кости и ждал игроков. Их пока не было. Они все еще сидели в своих холодных лавках, а Пьер весь день провел в теплой харчевне перед жаровней, поскольку на улице было жутко. Воровать в холодную погоду было не с руки. Искусство лазания по карманам требует обаяния и подвижности пальцев. Но о каком обаянии может идти речь, если на рыночной площади метет и пальцы превращаются в деревянные обрубки.
Шарль, как обычно, переступив порог харчевни, остановился в дверях перевести дух и вдруг неожиданно направился к Пьеру. «Так и есть! Сейчас потребует назад свой несчастный франк», — подумал Пьер. Сегодня у него было три франка. Но они были приготовлены для игры.

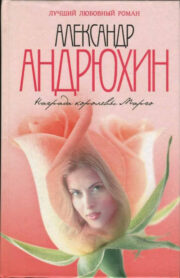
"Награда королевы Марго" отзывы
Отзывы читателей о книге "Награда королевы Марго". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Награда королевы Марго" друзьям в соцсетях.