Евгений оформлял стенды, стенгазеты, сочинял стихи, эпиграммы, писал речи офицерам и обрабатывал командиру части его статьи для армейской газеты. Кроме того, Евгению предоставляли достаточно времени для его личного творчества, выделив в библиотеке просторный закуток. Когда же в областной газете появлялись стихи рядового Трубникова, вся военная часть носила его на руках и даже производила холостые залпы из артиллерийских орудий.
Словом, на армию Евгений не в обиде. Более того, за два года он довел свой поэтический слог до такого совершенства, что, когда вернулся в институт (хоть и на второй курс, но снова на свой семинар), однокурсники ахнули. А что же еще было делать длинными, армейскими вечерами, как не совершенствовать поэтический дар?
Надо отметить, что Трубников демобилизовался весьма вовремя. Была весна восемьдесят девятого года. Вся литературная Россия готовилась к девятому совещанию молодых писателей, на которое впервые в советской истории приглашали не по рекомендациям писательских секретарей, а по рукописям самих литераторов.
А за месяц до этого в Москве проходил рыцарский турнир московских поэтов, на котором опять проявился подлый характер Колесникова. Но подлость не удалась. О ней Трубников узнал только год спустя. И поскольку она не сработала, Евгений не принял ее близко к сердцу.
Итак, по возвращении из армии Трубникова сразу пригласили участвовать в рыцарском турнире поэтов. Колесников уже сдал документы в комиссию и был очень доволен собой. За эти два года он тоже подточил свою поэтическую стилистику, но, конечно, не до такой степени, как его друг. В стихах у Трубникова к поэтическому аромату Парнаса примешался своеобразный запах армейских портянок. Это сочетание производило на зрителя убийственный эффект.
Когда он вышел на сцену и начал читать свои армейские вирши, воцарилась такая жуткая тишина, что стало страшно за страну. То, что прочел Трубников, возымело эффект артиллерийского залпа. Уже без всякой комиссии было ясно, что первое место присудят ему. В этом не сомневались ни зрители, ни участники турнира, которые продолжали борьбу за вторые и третьи места. Трубникову не могло не броситься в глаза, что Диман после его выступления как-то сразу обмяк и приуныл. А члены жюри, до этого полусонно и снисходительно наблюдавшие за тем, что происходит на сцене, оживились и о чем-то горячо заспорили. При подведении итогов они размахивали руками и хватали друг друга за грудки. Наконец один из них схватил ручку и принялся что-то вписывать в приготовленные грамоты.
Вышел председатель жюри и с улыбкой объявил, что первое место присуждено Трубникову. Зал взорвался аплодисментами. Евгению пожали руку и вручили грамоту. Взглянув в нее, победитель с удивлением увидел, что на том месте, куда была вписана жирная единица, раньше стояла цифра три, отпечатанная на машинке. Что же получается? Места распределили заранее и ему отвели третье? За этим недоумением он прослушал имя победителя второго места. Но третье присудили Колесникову. Это Трубников услышал четко.
— Мужики, а кому дали второе? — спросил победитель.
— Да какому-то Свистоплясцеву. Виртуазному моренисту.
— Мужинисту?
— Да нет! Моренисту. Виртуазному. Или Виртуозному. Черт его знает?
Когда они вышли из Политехнического, Трубников взглянул на грамоту Колесникова. На ней третье место также второпях было вписано ручкой, а под ним бледнела печатная цифра один.
— Слушай, если бы я не участвовал, первое место досталось бы тебе, — засмеялся Трубников. — Усекаешь? Места распределили заранее. Вот это турнир…
Не знал в тот вечер Трубников, что эти места распределял сам Колесников, предварительно подмаслив членов жюри зелененькими купюрами.
8
И все равно, несмотря на подлую натуру Колесникова, Трубников тянулся к нему. Он был жизнерадостный, веселый, заводной, с какими-то вечно несуразными идеями, фантазиями, изложение которых вызывало всеобщий хохот. Внешне он тоже выглядел романтично: высокий, тонкий, гибкий; на башке копна кудрявых волос, кончики губ всегда приподняты, над верхней губой аристократические усики, в глазах сумасшедший блеск; зрачки вечно бегали и вечно отчего-то вспыхивали. Одно его появление в институте вызывало всеобщую улыбку, поскольку все его восторгало, удивляло, изумляло. Если гулять, то он гулял от всей души со свистами и танцами на столах. Если слегка заболевал, то уже умирал и звал товарищей прощаться.
Чего греха таить — он был душой компании. Его любили все. И не любила только одна Маринка Маргулина, чьи корни исходили от французской королевы Маргариты де Валуа, хотя последняя, кажется, была бездетной.
…Трубников сидел в своем кабинете за столом и ждал девяти часов. Ему уже доложили, что после обхода Колесникова перевели в четвертую палату реабилитационного отделения, которое находилось на втором этаже. Теперь в новой палате Диман лежит с шестью больными, но сегодня в половине десятого они все отправятся в столовую смотреть хоккей. Та же медсестра проинформировала, что общение с самоубийцей строго запрещено. К нему допускаются только медсестры и психотерапевты. Однако она может организовать встречу в половине десятого вечера за пятьдесят баксов.
В коридоре опять слышался монотонный гул пылесоса и дряблый голос уборщицы, заливавшей другому вахтеру то же, что и вчера.
— Вот сейчас на пятнадцать тысяч долларов и однокомнатной квартиры не купишь, а в восьмидесятом можно было купить три трехкомнатные.
— Ну ты еще вспомни тридцатые годы! — скептически отвечал вахтер. — Кстати, я что-то не припомню, чтобы в восьмидесятых квартиры покупали за доллары.
— Дундук! Доллары приходилось менять на рубли. А знаешь, где меняли? У «Метрополя».
— Вот удивила! У «Метрополя» и сейчас меняют.
— Меняют, да не столько дают, сколько давали тогда.
— Ну и сколько давали тогда за доллар?
— Рубль.
Вахтер наконец расхохотался, а уборщица обиженно защебетала:
— А что, по-твоему, по тем временам пятнадцать тысяч рублей были не деньги?
На этой фразе раздался звонок, и Трубников поднял трубку. Звонила жена.
— Ты еще на работе? — спросила она.
— Да.
— Домой собираешься?
— Буду в одиннадцать. Сейчас я поеду в больницу к Диману.
Было уже без пятнадцати девять. «Пора», — сказал сам себе издатель и начал неспешно одеваться. А из коридора между тем энергично доносилось:
— Вот сейчас все бросились рожать за деньги американским миллионерам. А знаешь, кто первый ввел эту моду? Я!
— Ну и чем ты гордишься? — недовольно пробурчал вахтер. — Что ты стерва и показала стервозный пример?
Трубников оделся и вышел из кабинета. Уборщица тут же умолкла, а вахтер, осклабясь, фальшиво удивился:
— Это вы до сих пор работали, Евгений Алексеевич? Поздненько вы сегодня.
— До свидания, — буркнул Трубников и вышел на воздух.
Прежде чем сесть в машину, он зашел в гастроном. Накупив все, что полагается для больного, Трубников бросил пакеты на сиденье и завел машину. Ровно в половине десятого он трижды бибикнул у крыльца больницы и вышел с пакетами из автомобиля. Через минуту входная дверь с готовностью распахнулась, и медсестра в белом халате сделала пригласительный жест.
— Куда вы столько накупили? Ему все равно нельзя.
Она провела по лестнице на второй этаж и остановилась у двери с цифрой четыре. Трубников сунул ей пятидесятидолларовую банкноту и толкнул дверь.
Колесников лежал под капельницей с закрытыми глазами, но был уже не так бледен, как утром. Он медленно повернул голову на посетителя и сразу оживился:
— Женька! Ты у меня единственный друг. Я знал, что ты меня спасешь. Молоток, что приехал.
— Куда валить? — спросил Трубников.
Дмитрий перевел взгляд на пакеты и присвистнул:
— Вали на тумбочку. Мне все равно нельзя. Кстати, бутылочки нет?
Трубников не ответил. Избавившись от провизии, Евгений придвинул стул и сел у изголовья больного.
— Ну, как себя чувствуешь?
— Очень хреново. Очень…
Колесников страдальчески опустил веки и застонал.
— Вены сшили?
— Умоляю, не говори мне про вены! Я очень впечатлительный, — поморщился Диман. — Если ты имеешь в виду самочувствие в смысле здоровья, то оно удовлетворительное. Но морально мне очень плохо. Этот Олег стоит у меня перед глазами как живой.
Колесников снова в бессилии опустил глаза, а Трубников подавил улыбку.
— Как живой, говоришь? А он и есть живой.
Колесников дернулся и испуганно покосился на дверь.
— В том-то и дело, что живой! Я его убил, а он как ни в чем не бывало разгуливает по Москве. И Марго ведет себя так, как будто ничего не случилось. Как будто сама не уговорила меня укокошить своего молокососа.
«Все ясно. Это шизофрения, — сделал вывод посетитель. — Нужно с ним поосторожнее».
— А может, тебе приснилось, что ты его убил. А на самом деле не убил. Так бывает иногда…
— Да ты что? — вытаращил глаза больной. — Ты меня за шизофреника считаешь? Может, ты думаешь, что у меня крыша поехала? Я в него всадил две пули вот этой самой рукой…
Колесников так разволновался, что капельница едва не загремела на пол. Как раз в правую руку и была воткнута игла, а на левую — наложена шина.
— Успокойся, — потрепал по плечу Трубников. — Верю, что укокошил. Главное, не волнуйся. Выпишут — мы с ним разберемся.
— Правда разберемся? — воскликнул Колесников, и его глаза наполнились слезами. — Ты мой единственный друг…
— Только не говори психологу, что порезал себя из-за того, что убил человека. А то упечет в психушку.
— Я что, идиот? — зашевелил усами Колесников. — Меня не в психушку, а за решетку упрячут. Я психологу сказал, что у меня жуткая депрессия от одиночества. Жениться мне, словом, надо и детей заводить. Дети — лучшее лекарство от депрессии. Так я сказал врачу.

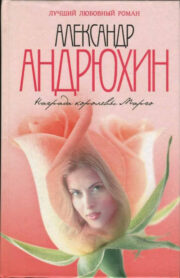
"Награда королевы Марго" отзывы
Отзывы читателей о книге "Награда королевы Марго". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Награда королевы Марго" друзьям в соцсетях.