Франческа согласилась, и тогда он нагнулся к рюкзаку, достал фотоаппарат и повесил его на плечо.
Они подошли к двери. Роберт Кинкейд распахнул ее и подождал, пока Франческа выйдет, а затем мягко повернул ручку, так что дверь закрылась совсем неслышно. По потрескавшейся бетонной дорожке они прошли через посыпанный гравием двор. Потом дорожка кончилась, и они вступили на траву, обогнули с восточной стороны сарай, где хранилась техника, и пошли дальше. От сарая пахнуло разогретым машинным маслом.
Когда они дошли до забора, Франческа опустила вниз проволоку и перешагнула. На ногах у нее были только босоножки с тонкими ремешками, и она сразу же ощутила холодные капли росы на ступнях и лодыжках. Он с легкостью проделал то же самое, перекинув ноги в ботинках через проволоку.
— Это луг или пастбище? — поинтересовался он.
— Скорее пастбище. Скот не дает траве вырасти. Будьте осторожны: здесь везде лепешки.
Лунный диск, почти полный, появился на восточном краю неба. По сравнению с только что исчезнувшим за горизонтом солнцем он казался светло-голубым. Где-то рядом промчался автомобиль. Звук был негромкий — на двигателе стоял глушитель. Значит, это мальчишка Кларков, защитник уинтерсетской футбольной команды. Едет со свидания с Джуди Леверенсон.
Давно Франческе не случалось выходить вечером погулять. После ужина в пять вечера следовали новости по телевизору, потом вечерняя программа — ее смотрели либо Ричард, либо дети, закончившие уроки. Сама она уходила на кухню почитать. Книги она брала или в библиотеке, или в клубе, членом которого она состояла. Ее интересовала история, поэзия и литература. Если погода была хорошая, она выходила посидеть на крыльцо. Смотреть телевизор ей не хотелось.
Иногда Ричард звал ее.
— Фрэнни, ты только посмотри!
Тогда она возвращалась в гостиную и некоторое время сидела рядом с ним. Чаще всего призыв раздавался, когда на экране появлялся Элвис. Примерно такой же эффект производили «Битлз», когда они только начали появляться в «Шоу Эда Салливэна». Ричард глаз не сводил с их причесок и неодобрительно качал головой, время от времени издавая недоуменные возгласы.
На несколько минут западную часть неба прорезали яркие красные полосы.
— Я называю это «рикошет», — сказал Роберт Кинкейд, показывая рукой в сторону горизонта. — Многие слишком рано убирают в футляры свои фотоаппараты. Ведь на самом деле, после того как солнце сядет, наступает момент, когда цвет и освещение делаются удивительно красивыми. Этот эффект длится всего несколько секунд, когда солнце только что ушло за горизонт, но его лучи как бы рикошетом продолжают освещать небо.
Франческа ничего не ответила, изумляясь, что на свете существует человек, которому не все равно, как называется место, где растет трава, — луг или пастбище. Его волнует цвет неба, он пишет стихи и не пишет прозу, играет на гитаре и зарабатывает на жизнь тем, что создает образы, а все свои орудие труда носит в рюкзаке. Он словно ветер. И двигается так же легко. Может быть, ветер его и принес.
Роберт смотрел вверх, засунув руки в карманы джинсов. Футляр с фотоаппаратом болтался у его левого бедра.
— «Серебряные яблоки луны. Золотые яблоки солнца». — Он произнес эти строчки низким бархатистым голосом, как профессиональный актер.
Она взглянула на него:
— У. Б. Йетс. «Песнь странствующего Энгуса».
— Правильно, У Йетса замечательные стихи. Реалистичные, лаконичные, в них есть чувства, красота, волшебство. Очень привлекают мою ирландскую натуру.
Всего лишь одна фраза — и в ней все. Франческа в свое время приложила немало сил, чтобы объяснить своим ученикам Йетса, но ей так никогда и не удалось достучаться до них. Одной из причин, почему она выбрала тогда Йетса, было именно то, о чем говорил Кинкейд. Ей казалось, что эти качества могли бы привлечь подростков, чьи глотки успешно соперничали со школьным духовым оркестром на футбольном матче. Но предубеждение против поэзии, которое они уже успели впитать в себя, представление о стихах, как о занятии для неполноценных мужчин, было слишком сильным. Никто, даже Йетс, не смог бы преодолеть его.
Франческа вспомнила Мэттью Кларка, который в тот момент, когда она читала «Золотые яблоки солнца», повернулся к своему соседу и сделал выразительный жест руками — будто бы брал женщину за грудь. Оба сидели и давились от смеха, а девочки рядом с ними покраснели.
С таким отношением к стихам они проживут всю свою жизнь. Именно это, она знала, и разочаровало ее окончательно в работе и в самом Уинтерсете. Она чувствовала себя униженной и одинокой, несмотря на внешнюю доброжелательность местных жителей. Поэты не были здесь желанными гостями. А люди, стремясь восполнить комплекс культурной неполноценности жизни в округе Мэдисон, ими же самими созданный, говорили: «Какое прекрасное место, чтобы растить детей». И ей всегда в таких случаях хотелось спросить: «А прекрасное ли это место, чтобы растить взрослых?»
Ни о чем заранее не договариваясь, они брели по пастбищу, обошли его кругом и повернули назад, к дому. К забору они подошли уже в полной темноте. На этот раз он опустил для нее проволоку, а затем прошел сам.
Франческа вспомнила про нераспечатанную бутылку бренди в буфете и сказала:
— У меня есть немного бренди. Или вы предпочитаете кофе?
— А можно сочетать одно с другим? — донесся из темноты его голос, и Франческа поняла, что Роберт улыбается.
Они вступили в круг света, очерченный на траве и гравии фонарем, и Франческа ответила:
— Конечно, можно, — в собственном голосе она уловила непонятные самой себе нотки и почувствовала беспокойство. Она узнала их: это были нотки беззаботного смеха в кафе Неаполя.
Похоже, все чашки в доме имели щербинки, а ей, хотя она и не сомневалась, что в его жизни щербинки и трещины в чашках были делом естественным, хотелось все-таки, чтобы ни одна мелочь не нарушала совершенства этого вечера. Две рюмки, перевернутые вверх основаниями, примостились в самой глубине буфета. Как и бренди, рюмки стояли там без употребления. Чтобы до них дотянуться, ей пришлось встать на цыпочки. Она чувствовала, что он смотрит и на мокрые босоножки, и на джинсы, натянувшиеся на бедрах и ягодицах.
Он сидел на том же стуле, что и раньше, и глядел на нее. Вот они, старые тропы. Он снова вступил на них, и они говорят с ним. Ему хотелось ощутить шелк ее волос под своей ладонью, почувствовать изгиб ее бедер, увидеть ее глаза, когда она будет лежать на спине под тяжестью его тела.
Старые тропы восставали против всего, что считается общепринятым — против понятий о приличиях, вбитых в головы людей столетиями культурного существования, против жестких правил поведения цивилизованного человека. Он пытался думать о чем-нибудь другом: о фотографии, например, о дорогах или о крытых мостах — о чем угодно, только чтобы не думать о ней, о том, какая она.
Но все было бесполезно, и снова он вернулся к мыслям об ощущении ее кожи, когда он коснется ее живота своим животом. Вечные вопросы, всегда одни и те же. Проклятые старые тропы, они прорываются наружу, как их не засыпай. Он топтал их ногами, гнал прочь от себя, затем закурил и глубоко вздохнул.
Франческа все время чувствовала на себе его глаза, хотя взгляд его был очень сдержанным. Роберт не позволял себе ничего лишнего, никакой настойчивости. Она не сомневалась, что он сразу понял — в эти рюмки никогда не наливали бренди. И еще Франческа знала, что он, со свойственным ирландцам чувством трагического, не остался безразличным к пустоте этих рюмок. Но возникшее в нем чувство — не жалость. Он не тот человек. Скорее это печаль. Ей подумалось, что в голове у него могли зазвучать строчки:
«Неоткрытая бутылка
И пустые бокалы.
Она протянула руку,
Чтобы найти их.
Где-то к северу
От Срединной реки.
Это было
В Айове.
Мои глаза смотрели на нее,
Глаза, что видели амазонок
Древнего племени хиваро
И Великий Шелковый путь,
Покрытый пылью времени.
Пыль вздымалась за мной
И улетала прочь, в неприкаянные
Пространства азиатского неба».
Снимая печать с бутылки, Франческа взглянула на свои руки и пожалела, что ногти у нее такие короткие и не слишком тщательно ухоженные. Жизнь на ферме не позволяла иметь длинные ногти. Но раньше это не имело для нее значения.
Бренди уже стояло на столе, рюмки тоже. Оставалось сварить кофе. Пока она возилась у плиты, он открыл бутылку и налил в рюмки — именно то количество, какое нужно. Очевидно, Роберту Кинкейду не раз приходилось иметь дело с послеобеденным бренди.
Интересно, в скольких кухнях или хороших ресторанах, или в изящных гостиных с приглушенным светом упражнялся он в этом своем маленьком искусстве? Сколько рук с длинными ногтями, изящно заостренными в его сторону, когда они обхватывали ножку рюмки, он видел? Как много огромных голубых и миндалевидных карих глаз смотрело на него по вечерам в чужих землях, пока корабли в бухтах тихо покачивались на якорях и волны лениво плескались о каменные причалы древних морских портов?
Верхний свет казался слишком ярким для кофе с бренди. Франческа Джонсон, жена фермера Ричарда Джонсона, оставила бы его гореть. Франческа Джонсон, женщина, чьи воспоминания о юности были только что разбужены прогулкой по ночной росе, сочла возможным приглушить его. В ящике буфета лежала свеча, но он мог неправильно ее понять. Поэтому она зажгла лампочку над мойкой и выключила верхний свет. Тоже, конечно, далеко от совершенства, но все-таки терпимо.
Он поднял рюмку и произнес:
— За древние вечера и тихую музыку вдали.
И потянулся к ней, чтобы коснуться ее рюмки.
Почему-то от этих слов у нее перехватило дыхание. Вместо того, чтобы сказать: «За древние вечера и тихую музыку вдали», — она только слегка улыбнулась.

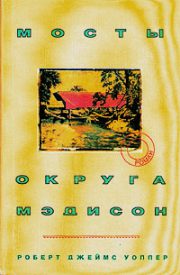
"Мосты округа Мэдисон" отзывы
Отзывы читателей о книге "Мосты округа Мэдисон". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Мосты округа Мэдисон" друзьям в соцсетях.