– Нет, – отрезал Кент без малейших колебаний. – Нет и еще раз нет. Скорее наоборот. Джеймс – человек трезвого рассудка, причем до такой степени, что иной раз просто оторопь берет. Он всегда таким был. Конечно, в определенные моменты каждый из нас может стать немножко параноиком, не так ли? Во всяком случае, про себя я это точно знаю. А вот Джеймс совсем не такой. Вообще-то у него есть одно слабое место: он не признает полутонов. У него все должно быть четко, ясно и разложено по полочкам. Буквоед страшный. Главное для него – факты. И ведь что интересно – он вовсе не обделен воображением, но, как мне кажется, всячески подавляет его в себе. Воображение вызывает у него тревогу. Так было всегда, даже в школе. Но есть в душе Джеймса и нечто стихийное. Знаете, эдакая страстная, романтическая струнка, что-то от крестоносца. Однако он не дает этим качествам выхода, держит себя в ежовых рукавицах.
– Значит, речь идет о человеке, которого можно подвигнуть на борьбу за правое дело?
– О, несомненно. Именно поэтому он и пошел в армию. Армия дала ему жизненные ориентиры, поставила очень простую, определенную и в то же время благородную цель: защищай отечество – и точка. Он полностью проникся этой идеей. – Кент ухмыльнулся. – Я был даже тронут, настолько мне это казалось тогда старомодным и милым. И все же в то время как Джеймс делал вид, что ему нравится лагерная муштра, я предпочитал топтаться на Кингз-роуд в сандалиях и индейских бусах. Мир и любовь. Лови кайф. И да здравствуют цветы! Так-то вот, дорогая Женевьева. – Его улыбка стала еще шире. – Все теперь позади, другие времена настали. В конце концов я открыл для себя капитализм и коммерцию, даже добился на этом поприще кое-каких успехов.
Глянув на нее с хитрецой, Кент вздохнул.
– Вы, конечно, не помните всего этого. Да и как вам это помнить! Вы слишком молоды. В вашем присутствии я ощущаю себя глубоким старцем. Но поверьте, Женевьева, именно так все было в тс далекие времена. Восхитительный мир конца шестидесятых – начала семидесятых. Казалось, перед тобой лежит долгий прекрасный путь. И я ступил на него. А вот Джеймс не ступил. Нет-нет, как можно!
Опять воцарилось молчание. Джини что-то царапала в своем блокноте. От нее не укрылась некоторая парадоксальность ситуации. С одной стороны – бывший хиппи Кент, превратившийся в преуспевающего дельца, облаченного в барахло от Армани и обеспокоенного только двумя проблемами: как приумножить свои доходы и избежать конфликта с законом. С другой – Макмаллен, рационалист и аскет, который нашел романтическую цель в армейской службе. Перевернув страницу, она подняла глаза на Кента, который озабоченно смотрел на часы.
– Из-за вас я пропускаю обед, – пожаловался он. – Впрочем, плевать. Черт с ним! Что может сравниться со сладостью воспоминаний! Ах, если бы вы встретили меня тогда, Женевьева, я бы вам точно понравился. Представьте себе: борода, как у Че Гевары, волосы вот досюда, – чиркнул он ребром ладони по груди.
Джини ответила ему улыбкой.
– Не сомневаюсь, – сказала она. – А нельзя ли подробнее рассказать о том периоде – в шестьдесят восьмом году, когда вы с Макмалленом поступили в Оксфорд? Ведь он ушел на следующий год. Вы полагаете, что причиной тому был какой-то нервный срыв. Были ли какие-нибудь намеки на это до того, как он покинул Оксфорд? Не казалось ли вам, что он находится в состоянии депрессии?
– Не то чтобы в настоящей депрессии. Да, он был подавлен, несчастен, это было видно невооруженным глазом. Он явно пытался заглушить свои печали – работал как лошадь. Стал нелюдим. Знаете, есть такие: на вечеринки не ходят, с девушками не гуляют, ни разу не напьются вдрызг. Наверное, мне следовало быть понастойчивее, поговорить с ним по душам, но знаете ведь, как обычно бывает. Я был слишком занят погоней за наслаждениями. А потом хвать – и нет его.
– Понимаю. Тогда, может быть, попробуем вернуться в еще более раннее время? В Оксфорде он чувствовал себя подавленным. А раньше? Часто ли у него бывали перепады настроения, приступы хандры в школе, например?
– В школе? Боже сохрани. Уж чего-чего, а такого за ним не водилось.
– Другими словами, он изменился? Постарайтесь вспомнить, когда начались эти перемены. Виделись ли вы, к слову, в период между школой и Оксфордом? Ведь жил же он после школы девять месяцев в Париже, посещая курсы в Сорбонне.
– Да ведь мы оба были тогда в Париже! – радостно сообщил Кент. – Вы что, не знали? Это время мы провели вместе. Я поехал туда с неохотой, поддавшись на уговоры Джеймса, но в действительности эта идея целиком и полностью принадлежала его старикам. Они оба были просто помешаны на культуре. Вбили себе в голову, что Джеймс не должен попусту тратить время, оставшееся до Оксфорда. Вот и пристроили нас обоих к одному парижскому семейству – Гравелье. Марк Гравелье держал картинную галерею на левом берегу Сены, и мамаша Джеймса сочла, что не найти лучшего места, где бы мы насквозь пропитались высокой культурой, усовершенствовали свой французский ну и прочее. Я поехал, потому что меня уговорил Джеймс. И еще потому, что мне казалось, будто я обязательно познакомлюсь в Париже с кучей симпатичных девчонок.
– Ясно. Вы были там вместе. Долго ли?
– Примерно полгода – с января по июль. Ну и времечко было, доложу я вам! – Он наклонился вперед. – Мамаша Джеймса, занимаясь дома планированием нашей парижской жизни, кое в чем просчиталась. Она полагала, что супруги Гравелье – очень bon genre.[8] Так оно и было – до известной степени. Но чего она в первую очередь не учла, так это того, что мадам Гравелье принадлежала к породе прекрасных, страстных французских интеллектуалок с богемными наклонностями. У нее было полно дружков среди леваков. Вечеринки до трех часов утра, Жан-Поль Сартр на ужин. Никаких домашних правил, никакого тебе комендантского часа. Можете себе представить, что мы должны были почувствовать после английского пансиона? Я точно с цепи сорвался. Вообще-то сейчас, – ухмыльнулся он, – я задним числом понимаю, что именно тогда заскользил вниз по наклонной плоскости. Я впервые дышал полной грудью. А воздух свободы очень вреден для организма. Уж можете мне поверить!
– С цепи, значит, сорвались? А Джеймс? Он пошел той же дорожкой?
– О, Джеймс, – засмеялся Кент. – Вначале он воспринял все это слишком серьезно. Курсы в Сорбонне – подумать только! Я-то бегал от них как от чумы… Впрочем, думаю, и он чувствовал эти веяния – веяния другого мира. Против них невозможно было устоять. К апрелю-маю весь Париж казался уже не городом, а целым миром, который вот-вот взорвется. Джеймс не смог полностью уберечься от пыла толпы, от всеобщего возбуждения. Вместе с другими студентами Сорбонны он участвовал в паре маршей протеста. Но пришел май, и им овладели совершенно иные заботы.
– Какие же?
– Втюрился, – комически пожал плечами Кент. – А уж если втюрился, то по уши. Надо знать Джеймса, чтобы понять, что с ним тогда начало твориться. Французы придумали для такого случая самое лучшее определение: un coup de foudre – удар молнии. Он сделался словно сам не свой. Bouleverse.[9] Но не упускайте из виду. – Он многозначительно поглядел на нее. – Тогда мы были двумя английскими школьниками, воспитанными в монашеских условиях. И, увы, девственниками. Нам обоим было по восемнадцать лет.
Внезапно прервав рассказ, он уставился на дверь. К их столику пробирался только что вошедший в бар Паскаль. Кент обескураженно вздохнул.
– Ах, черт… Это ваш дружок? А я уж было собрался повторить вам приглашение на ужин. Жаль. Не думаю, что теперь мне это удастся. Боюсь остаться непонятым. Он всегда такой хмурый или только тогда, когда видит, как мужчина с хвостом на голове угощает вас большой порцией джина, а вы не пьете? О-о, привет… – Кент проворно поднялся со стула, был представлен и сел на место. Пододвигая стул, он не спускал с Паскаля глаз.
– Так-так-так, – произнес он. – Паскаль Ламартин. Бедный Джеймс. Что же он такое умудрился натворить? Насколько мне известно, за кинозвездами Джеймс не приударяет… А я и не знал, Женевьева, что вы работаете при поддержке танковой бригады. Иначе и духа бы моего здесь уже не было.
Паскаль тоже захотел высказаться, но Джини под столом пнула его ногой.
– О, Паскаль всего лишь мой хороший знакомый, – беззаботно прощебетала она. – Иногда обедаем вместе, вот и все. Он не имеет никакого отношения ни к моему материалу, ни к вам лично. – Джини обворожительно улыбнулась Кенту. – Честное слово. Он не будет возражать, если я попрошу его подождать немножко. Не возражаешь, Паскаль?
– Конечно, нет.
– Вы как раз остановились на самом интересном. Что же было дальше?
– Я пойду куплю что-нибудь выпить, – поднялся из-за стола Паскаль. – Джин с тоником?
Джереми Прайор-Кент сперва задумался, потом зябко поежился.
– Нет, спасибо. Перейду-ка обратно на пиво. Мне – «Корону» с зеленым лимоном. За ваше здоровье.
Паскаль ушел. Кент закурил очередную сигарету. Он молча посмотрел на Джини, потом улыбнулся.
– Меня не покидает странное чувство, что здесь происходит нечто более важное, чем может показаться на первый взгляд. Интересно, с чего бы это?
– Может быть, сказывается ваша склонность к паранойе? Вы же сами сознались.
– Возможно, возможно… А впрочем, какого черта я боюсь? Не государственную же тайну я выдаю в конце концов. Вы в самом деле хотите, чтобы я продолжил свой рассказ?
– Разумеется. Давайте начнем с того, на чем вы остановились. Париж в 1968 году. Май. Джеймс Макмаллен без ума от любви. У него начинается первая любовная интрижка…
– Не надо торопиться. – Кент приподнял ладонь над поверхностью стола. – Я сказал «влюбился». Но я ничего не говорил о том, что у него была интрижка. Вот у меня были интрижки, даже больше чем достаточно. А у Джеймса не было. Насколько я знаю, его любовь была чисто платонической, что делало ее только жарче. За Джеймсом такое водится. Он любит ставить женщин на пьедестал, чтобы потом боготворить их и служить им верой и правдой. Эдакий рыцарь без страха и упрека. Весьма средневековый, в чем, на мой взгляд, и гнездится опасность. От этого бывают только всякие вредные мечтания. Хотя Джеймс, конечно же, так не считает.

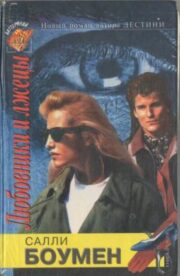
"Любовники и лжецы. Книга 2" отзывы
Отзывы читателей о книге "Любовники и лжецы. Книга 2". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Любовники и лжецы. Книга 2" друзьям в соцсетях.