— Звездочка, там тебя Юлька искала.
— Зачем? — хмурится Богдана, явно не желая слезать с отца. Хотя с Юлькой, племянницей Руслана, белокурой озорницей, разрисовавшей половину нашего гардероба, Богдана сдружилась сразу.
— На роликах кататься, — улыбается Рус, — говорит, ты хотела научиться.
— Точно! — Богдана хлопает себя ладошкой по лбу, юлой выворачивается из рук Руслана, чмокает меня в щеку и маленьким смерчем уносится прочь. Я смеюсь ей вслед.
Моя сумасшедшая семейка явно идет дочке на пользу: та оживает, с каждым днем все больше выбираясь из своего кокона. Но смех стихает, стоит мне столкнуться с прожигающим насквозь чернильным взглядом своего мужа.
— Нам…
Начинает Руслан, но я пресекаю его попытку поднятой вверх ладонью. Эта фраза... Мне кажется, если он ее произнесет, то придет конец моему маленькому и такому хрупкому счастью, что теплым комком расцвело в груди за эти тринадцать недель. Похоже, я рано поверила в сказку. Смалодушничала, позволив себе любить этого мужчину.
— Хочешь забрать Богдану? — слова даются с трудом, едва слышно, словно голос цепляется за призрачную надежду, что я не права, и сейчас Рус назовет меня идиоткой, сгребет в охапку и...
Но он ничего этого не делает, кладет на стол капроновую папку.
— Да.
Я снова сплю одна. В съемной квартире тихо и пусто, а в кровати неимоверно холодно. Сажусь в постели, устало растираю лицо и зарываю пальцы в отросшие волосы. Уже семнадцать недель я не стригусь и не крашусь и сейчас так похожа на себя прежнюю, что становится страшно. Потому что в той жизни, что осталась за порогом дома моего брата, жила какая-то другая Александра, жесткая, волевая, от которой не осталось и следа.
Сажусь на край кровати, свешиваю ноги на пол. Пальцы касаются холодного пола, по коже прокатываются мурашки. Холодно. Влезаю в тапки, закутываюсь в одеяло и бреду на кухню.
По подоконнику стучит дождь, а в темной ночи вступает в свои права промозглый октябрь.
Включаю чайник и неотрывно наблюдаю, как медленно вскипает вода. И мои мысли, как эта вода, текут медленно, возвращая к событиям прошедших недель.
Когда я поставила свою подпись на разрешении на вывоз Богданы заграницу, моя жизнь не изменилась. Ее просто не стало. Я помню каждое слово Руслана: о том, что это просто необходимость; что его срочно вызывают на работу, а он не может оставить здесь Богдану; и что нашей дочери нужно начинать учиться, а сейчас самое время, чтобы подготовиться к учебному году; и даже о том, что сейчас я не могу уехать с ними. Я все помню, как и то, что он так и не позвал меня с собой. Да, я все еще его жена, но...так и осталась чужой. Даже после того, как вывернула перед ним душу. Идеальная месть.
Я уехала от Алекса в тот же день, когда поднялся в небо самолет с моей семьей. Да, они всегда были и будут моей семьей. Даже если мой муж решил иначе. Сняла квартиру в спальном районе и просто жила от допроса к допросу, от суда до суда.
Богдана звонила каждый вечер: делилась успехами или неудачами. Она познакомилась с девочками-соседками, с кем вместе каталась на роликах. Начала читать. Делилась впечатлениями о прочитанном «Маленьком принце» Экзюпери и долго молчала после. Она всегда смеялась, даже когда рассказывала, как упала и сбила коленки.
Четыре недели света и тепла в каждом телефонном разговоре. И только вчера загрустила.
— Привет, дорогая, — улыбнулась звонкому голосу дочки в трубке и наблюдала, как закатывалось за крыши солнце или целовались в парке влюбленные парочки, или вспыхивали первые огни на набережной. — Как дела?
— Фигово, — вздохнула Богдана так обреченно, что у меня защемило в груди. Закусила губу. — Ты когда приедешь?
— Скоро, моя хорошая, очень скоро.
— Ты всегда так говоришь, — пыхтела в трубку. — Если ты нас бросила, так и скажи.
Что? Бросила? Интересно, откуда такие глупые мысли в ее рыжей головушке? Приеду, надеру зад одному несносному засранцу, решившему все за троих.
— Не смей даже так думать, поняла?! — намеренно напустила в голос строгости.
— Как же...у тебя теперь будет свой ребенок.
Фыркнула со смеху. Иногда такая взрослая, а по сути ребенок совсем с сумбуром в голове.
— Этот ребенок, моя маленькая звездочка, не только мой, но и папин. И твой брат. И я никогда не буду любить тебя меньше, потому что невозможно уменьшить любовь. Она как Вселенная. Космос, который безграничен. В космосе же много планет, звезд, галактик, верно?
— Угу.
— Вот и в моей космической любви хватит места на всех.
— И даже на папу?
— Конечно, моя родная. И я никогда тебя не брошу. Вот накажу одного плохого дядю и приеду. Обязательно. Я очень соскучилась.
— И мы.
— Как папа? — спросила осторожно. За четыре недели я ни разу не слышала его голос. За все это время Руслан ни разу не позвонил. Как и я.
— Работает. И скучает. Ты ему очень нужна. Нам нужна. Приезжай скорее.
— Обязательно. А ты береги наш секрет.
Щелкает кнопка, выдергивая из воспоминаний. Завариваю чай. Кофе пить отучил меня мой малыш. Мое персональное чудо. Наблюдаю, как кружатся чаинки.
С Корзиным я встретилась неделю назад. Случайно увидела, как он гуляет в парке с сыном. И вдруг поняла, что нам не о чем говорить. Все, что между нами было, испарилось, словно мираж в пустыне. Не было ничего и никого, кроме Руслана. Я не хотела подходить, но Корзин заметил меня, окликнул. И замер, прилипнув взглядом к уже заметному животу. Улыбнулась озорному мальчишке, который держал в маленьких ручках воздушный шар в форме мультяшного слона, показала поднятый вверх большой палец и ушла, ни разу не обернувшись. Оставила все в прошлом. Даже обиду на Олега, решившего устроить счастье сестры, убрав меня с дороги. А заодно и разбогатеть за мой счет, прибрав к рукам нашу фирму и мои деньги. Я больше не хотела окунаться в это дерьмо. Я хотела домой. Только где он, мой дом?
Наливаю заварку, кипяток, размешиваю сахар, обхватываю теплую чашку руками и замираю, так и не сделав ни единого глотка.
Легкий щелчок внутри. Еще один и еще. Едва уловимые. Словно в животе надуваются и лопаются мыльные пузыри. Нежно и щекотно. Не может быть! Дрожащими руками ставлю на стол чашку и прикладываю ладони к округлившемуся животу. Закрываю глаза и, кажется, даже не дышу. Мне не могло показаться.
— Ну же, малыш, я знаю, что это ты.
Хоп...
Толчок в ладонь. Сильный такой, уверенный. Спустя удар сердца снова. Хоп…
Растягиваю губы в улыбку. Настоящий мужчина. Теперь никаких сомнений.
— Привет, Славка, — шепчу сорванным голосом. И по коже растекается негой волшебное ощущение нежности. За спиной нашариваю стул и сажусь, затылком упершись в стену.
Все, хватит! Хватаю со стола телефон, набираю номер. Длинные гудки раздражают, но сонный голос Роднянского дико радует.
— Миша, — почти кричу, потому что больше нет сил выдерживать это проклятое расследование. — Мне нужно срочно уехать.
— Лилина, ты на часы смотришь хоть иногда? Три часа ночи на минуточку.
— Огнева я, Миш, — поправляю со вспыхнувшим в каждой молекуле куражом.
— То, что ты Огнева, не отменяет, что сейчас ночь на дворе, и я сплю.
— Плевать, — отметаю его бурчание с тихим смехом. — Мне нужно уехать. Сможешь устроить?
Я бы давно уехала, но прокурор уперся, что я должна присутствовать на каждом заседании, которые все время почему-то переносились и переносились. Похоже, не видать этому конца. А я очень хорошо знаю, как можно годами затягивать процесс. У меня нет на это времени.
— Завтра заедешь, оформим документы, и вали на все четыре стороны.
— Серьезно? И прокурор отпустит?
— А мы спрашивать не будем. Ты не на подписке. Будет повестка, приедешь. Думаю, твой благоверный тебя на личном самолете доставит.
— Не доставит, — парирую я. — Мне нельзя летать, Миш.
— Считай, что я ничего не слышал, Огнева. Главное, убедить прокурора.
Убедил. Не знаю, как, но смог. И в полдень я уже сижу в вагоне поезда и наблюдаю в окно, за которым ускользает прежняя жизнь. И начинается совершенно новая. Моя. Настоящая.
Глава двадцать вторая: Рус
И каждый рисунок мой —
Признанье тебе в любви…
Марк Тишман «Я рисую»
Четыре недели. Проклятые двадцать восемь дней, когда мне хочется не только убить каждого идиота, угробившего мой проект, но и сдохнуть самому. Надо же додуматься использовать для опорных балок изъеденное насекомыми дерево. Да оно же у меня в руках рассыпается! Хорошо, крыша рухнула, когда в здании были только рабочие, а не сотня-другая детишек. Построили, мать его, детский центр!
Рычу, сжимая кулаки, и тут же матерюсь от боли в пальцах. Смотрю на свою «железную» руку. Девять штифтов, мать их. Она и по ощущениям тяжелая, что та балка, раздробившая к чертям все кости.
Все тело такое, словно по мне бетоноукладчиком проехались. Выдыхаю рвано.
— Ты жив и это главное, — говорит уставший Кот. Проводит рукой по отросшим волосам.
Слова звучат как сквозь вату. Боль размывает сознание. Смотрю на прошитую штифтами свою руку. В каждом пальце торчит эта металлическая дрянь. В каждом пальце рабочей руки.
— Как… — облизываю пересохшие губы. — Как Богдана?
— Волнуется. Рвется к тебе, и позвонить маме.
— Нет, — порываюсь сесть, но боль рвет мышцы. Сашке нельзя звонить. Ей нельзя волноваться.
— Лежать! — рявкает Кот. — Стас тебя не для этого вытягивал!
Стас…Беляев приехал три дня назад по моей просьбе. Привез гениального инженера, чтобы проверить безопасность нашего…моего детского центра. Проверил, твою мать!

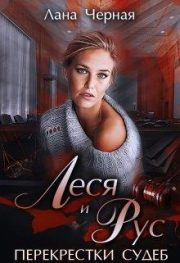
"Леся и Рус" отзывы
Отзывы читателей о книге "Леся и Рус". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Леся и Рус" друзьям в соцсетях.