Ей все труднее становилось вспоминать то время, когда она жила в маленькой комнатке на 11-й Восточной улице, откуда ее выставили, потому что она не платила за квартиру. Но Джуди заставляла себя помнить о тех днях. По контрасту такие воспоминания делали дни нынешние еще приятнее.
Была и другая причина того, почему Джуди не хотела забывать, что значит оказаться в большом городе без денег. Именно в таком положении были многие из ее читателей. Они покупали «Вэв!»[4] за присущие ему оптимизм, яркость и непосредственность чувств, за его жизнеутверждающее начало, они видели в этом остром журнале своего друга. Джуди и на автобусе ездила потому, что хотела жить тем же и испытывать то же, чем живут и что испытывают ее читатели.
Иногда ей было трудно примирять между собой противоположные качества своего образа, сложившегося в представлениях публики. С одной стороны, ей нравилось, когда в ней видели способную посочувствовать другим, целеустремленную, собственным трудом зарабатывающую на жизнь женщину, которая обедает где придется хот-догом, купленным на углу; в общем, обычную женщину-труженицу, почти такую же, как большинство ее читательниц. С другой стороны, те же самые читательницы ожидали от нее великосветского образа жизни, сказочных туалетов и всего прочего, чем, по их представлениям, должны непременно отличаться знаменитости. Поэтому, когда Джуди не перехватывала где-нибудь хот-дог, она обедала «У Лютека», при необходимости садилась на диету и постоянно куда-то ездила.
Двери автобуса зашипели и открылись, впустили новых пассажиров, опять зашипели и закрылись. Женщина средних лет с болезненно-желтоватым цветом лица плюхнулась на сиденье напротив Джуди, пристроила у себя на коленях хозяйственную сумку и вдруг застонала: «Хоть бы все эти дома сгорели, проблем бы стало меньше!» Она повторяла эту фразу снова и снова, а потом принялась выкрикивать ее. Никто в автобусе не обращал на женщину ни малейшего внимания, но, когда она вышла, раздался всеобщий вздох облегчения, кто-то улыбнулся, кто-то пожал плечами — что тут скажешь, еще одна нью-йоркская сумасшедшая, и плевать она хотела, кто что о ней подумает.
Но это еще и признак зрелости, отметила про себя Джуди. По-настоящему взрослым становишься тогда, когда тебя перестает волновать, что о тебе думают другие, и начинаешь больше интересоваться тем, что ты сам о них думаешь… Может, сделать это главной темой очередного номера? — профессионально прикинула она, сразу же наметив, кого можно было бы использовать как авторов, у каких знаменитостей взять интервью, какие вопросы задать, какой текст предложить читателям, кого из редакторов поставить ведущим номера. «А вы уже повзрослели?» Неплохой заголовок. И вопрос тоже неплохой, подумала она, не зная, как бы ответила на него применительно к самой себе.
Хотя на окнах у них в доме висели кружевные занавески, на самом деле семья ее была крайне бедна. Родители, истово верующие баптисты-южане, были больше всего озабочены тем, как бы не соприкоснуться с чужими грехами и не нагрешить самим. По этой причине Джуди и ее брату Питеру не позволялось ничего делать по воскресеньям. Они могли попеть в этот день в церковном хоре, но дома им петь не разрешалось, как не разрешалось слушать радио по выходным — это грех. Большой, искусно отделанный деревом под каштан громкоговоритель, на передней панели которою от динамика расходились во все стороны солнечные лучи, был главной достопримечательностью их гостиной; но по воскресеньям единственным звуком в доме, не считая доносившегося из кухни шума готовки, был стук старого холодильника, стоявшего у выхода на заднее крыльцо.
Курение и употребление спиртного, естественно, тоже было грешно. Но тем не менее дед Джуди, живший с ними вместе, по воскресеньям время от времени скрывался в подвале, чтобы глотнуть виски из бутылки, которую он прятал там позади бойлера. Возможно, перед собой он оправдывался тем, что спиртное необходимо ему как лекарство. Выпив, дед обычно усаживался на заднем крыльце в кресло-качалку, трещавшее под его тяжестью, и сидел там, уставившись неподвижным взглядом на яблоню в дальнем конце сада, как будто в ожидании прихода вечности. Родители Джуди не могли не знать о его воскресных выпивках хотя бы из-за запаха, который чувствовался совершенно отчетливо. Но мать только поджимала губы и неодобрительно пофыркивала, однако никогда ничего не говорила. В семье считалось, что дед — трезвенник.
Мужчина в рубашке из шотландки, сидевший напротив наискосок от Джуди, как-то странно посмотрел на нее и опустил глаза, пытаясь украдкой проверить, застегнута ли у него «молния» на брюках. Джуди поспешно отвернулась в сторону — опять она сидела, на кого-то уставившись! Когда она глубоко задумывалась о чем-либо, ее темные голубые глаза начинали так свирепо сверкать сквозь черепаховые очки, что окружающим становилось не по себе от ее взгляда; у Джуди, однако, это выходило совершенно непреднамеренно.
Интересно, зачем Лили понадобилась эта встреча и почему она обставляет ее с такой таинственностью, в который раз спрашивала себя Джуди.
Вначале был покаянный телефонный звонок — и бог свидетель, Лили есть в чем каяться. В конечном счете то, что с Лили тогда все сорвалось, пошло делам Джуди только на пользу; но в тот вечер в Чикаго самой-то Лили двигали иные побуждения… «Если бы вы только могли простить меня… Я поступила тогда очень плохо…» «Я была так неблагодарна… И все это было настолько непрофессионально… При одном воспоминании об этом мне становится стыдно…» Джуди, поначалу решившая было держаться непреклонно, постепенно смягчилась. Не только потому, что Лили была звездой и обладала каким-то внутренним магнетизмом; просто потому, что Джуди понравилось с ней работать. До того злополучного вечера в Чикаго они действительно были с Лили великолепной командой.
Лили сказала, что намерена обсудить с Джуди нечто особое, «нечто очень конфиденциальное, о чем я хотела бы поговорить с вами только лично».
Джуди не любила попусту растрачивать на других свое время. Каждую неделю она получала десятки самых странных предложений, большая часть которых не попадала дальше ее секретарей. Но Лили — это Лили: у нее были связи и контакты с большим числом знаменитостей, нежели у любой иной женщины: ее диковатая красота давно уже стала легендой века; а кроме того, Лили была известна и тем, что никогда не давала интервью.
Последнее значило для Джуди больше всего. Лили вполне заслуживала того, чтобы потратить на нее в «Вэв!» даже тысячу слов, и поэтому Джуди согласилась на встречу, а там будь что будет. Обрадовавшись, как ребенок, Лили поблагодарила ее так очаровательно, как обычно это делают дети, и попросила держать договоренность об их предстоящем свидании в тайне. Джуди и без того не стала бы об этом никому говорить, но просьба Лили заинтриговала ее. Как и сама Джуди, Лили тоже добилась в жизни успеха, который пришел к ней внезапно и быстро, притом сделала это вопреки обстоятельствам и каким-то непостижимым образом. Сейчас ей, наверное, лет двадцать восемь — двадцать девять, хотя выглядит она намного моложе.
Вслед за телефонным разговором, состоявшимся в прошлом месяце, пришло подтверждающее договоренность письмо, написанное на плотной кремовой бумаге, на которой очень красиво в самом центре листа темно-синим шрифтом бодони было выгравировано одно-единственное слово: Лили. Фамилии Лили почему-то не было.
Что может быть у нее на уме, спрашивала себя Джуди. Ей понадобились помощь и поддержка в чем-либо? Нет, безусловно, не это. Хочет что-то опубликовать? Вряд ли. Нужна реклама? Но при ее известности в этом нет никакой необходимости.
Часы показывали двадцать минут седьмого, движение на улице безнадежно застопорилось, поэтому Джуди выскочила из автобуса и несколько оставшихся кварталов прошла пешком. Она любила приходить всегда вовремя.
В машине воняло застоявшимся табачным дымом, заднее сиденье было порезано, из него торчали пружины. Такси тоже застряло в пробке на Мэдисон-авеню. Водитель, угрюмый и неприветливый пуэрториканец, к счастью, молчал; но, просидев так некоторое время, вдруг отрывисто спросил: «Вы откуда?»
«Из Корнуолла»[5], — ответила Пэйган, не привыкшая считать себя англичанкой. «Самая теплая часть Британии», — добавила она чуть погодя и подумала, что водителю, наверное, это мало о чем говорит. Пэйган отличалась постоянной и сильной бледностью, причиной чему было плохое кровообращение, из-за которого она вечно страдала от холода; а там, где она в детстве жила, такая погода стояла одиннадцать месяцев в году. Еще ребенком она страшно не любила высовывать по утрам голые ноги из-под одеяла: они мгновенно мерзли, хотя она поспешно совала их в теплые овчинные тапочки. Свое зимнее нижнее белье она одновременно и любила, и ненавидела: оно было теплое, но неудобное. Шерстяное, колючее, плотно облегавшее все тело от шеи до колен, с дурацким разрезом для естественных надобностей, который расстегивался и застегивался сзади, с жестким фланелевым бюстгальтером, переходившим в некое подобие достававшей до низа живота жилетки, с которой свисали длинные подвязки: к ним она цепляла толстые шерстяные чулки.
Пэйган помнила, что, когда она была еще ребенком, каждое утро в семь часов в их доме в Трелони начиналась суета: служанка разжигала печи и камины, которые накануне вечером закрывались или гасились ровно в одиннадцать, несмотря ни на какой холод и независимо от того, когда кто ложился спать. Вонючие цилиндрические печи, топившиеся мазутом, стояли прямо перед кружевными занавесками в спальнях и в ванных комнатах; в самых больших комнатах чадили топившиеся углем камины; а в холле и в гостиной в каминах постоянно тлели крупные, раскаленные докрасна поленья; но в длинном коридоре и в ванных вечно стоял мороз, а еда, которую приносили из отдельной от дома кухни, к тому моменту, когда она попадала на парадный обеденный стол, бывала всегда уже чуть теплой. От неровного, выложенного из каменных плит пола в столовой постоянно, даже летом, исходил холод, который Пэйган ощущала и через туфли. Когда ей казалось, что никто не видит, она поджимала ноги под сиденье стула, стараясь не прикасаться ими к ледяному полу, — но это всегда замечалось, и она получала резкое приказание «сесть, как леди».

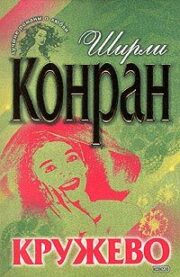
"Кружево" отзывы
Отзывы читателей о книге "Кружево". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Кружево" друзьям в соцсетях.