– Помнится, бабушка была настоящей Кармен. – И горько рассмеялась.
Весь вечер Джанет была центром внимания и говорила не переставая, да и Селия с Чарльзом не отставали от внучки в рассказах об ее успехах и талантах.
– Ну, а что бы она видела у вас? – раскуривая неизменную трубку, добродушно ворчал совсем поседевший и высохший четвертый баронет. – Жвачка, Диснейленд, боевики, хот-доги и поп-корн? А здесь мы каждые выходные в Лондоне, все музеи, да и один Шервудский лес чего стоит!
– Джи рисует, пишет сказки, а как она поет в школьном хоре! – вторила Селия, ставшая, наконец, той доброй старой бабушкой-волшебницей, о которой так мечтала когда-то Джанет.
– Поет? – Вдруг нахмурившись, переспросила Пат.
– Конечно! Джи, душенька, спой ту песню, которая мне больше всего нравится, о розе!
– Нет. – Пат властно положила свою маленькую руку на плечо уже готовой было выскочить на середину столовой Джанет. – Петь она не будет.
– Патти слишком часто видит, как с возрастом голос меняется, даже у девочек, и сколько потом это приносит разочарований и драм, – поспешил сгладить резкость жены и спасти ситуацию Стив. – Джанет будет просто красавицей, да, хюбше медхен?[16]
Им отвели старинный зал, бывший когда-то местом охотничьих пирушек друзей Роджера Певерилла Фоулбарта, второго баронета, – до сих пор на стенах висели пропыленные кабаньи головы и оленьи рога. Зал давно пустовал за полной ненадобностью в современной жизни, а превратить его в жилое помещение у Фоулбартов не хватало ни средств, ни желания. Здесь часто играла маленькая Джанет, воображая себя то Маленькой Разбойницей, то дерзкой Саламандрой.
Кожаный диван, на котором вполне могло уместиться человек пять захмелевших охотников одновременно, приветливо пахнул на них слабыми запахами табака и забытой туалетной эссенции «Пемброк».
– Пат нерешительно остановилась у высокой спинки дивана.
– Послушай, сколько лет мы не спали в одной постели?
Стив, уже давно валявшийся на простынях, накрахмаленных до такой хрусткости, придавать которую белью умеют только англичане, присвистнул.
– Ты что, боишься лечь на наследственное ложе?
– Не хочу.
– Тогда иди и проведи ночь в обнимку с Робин Гудом. Я сплю. – И Стив демонстративно откатившись к самой стене, громко засопел.
Пат долго стояла у окна, бездумно глядя, как снег засыпает пустынную Касл-Грин, и думала примерно о том же, чему день назад удивлялся в самолете Стив. Разве, попадая девчонкой в эту, тогда еще строго сохраняемую комнату и мечтая в тишине о любви, похожей на сказку, она могла себе представить свою нынешнюю жизнь? Вот за стеной спит дочь, в таком ужасе рожденная, но от этого не ставшая близкой, вот спит муж, такой замечательный и нужный, но нелюбимый… Ах, Мэтью, лунный, бездомный…
И в то же время Пат никак, даже в самых глубинах души, не могла признать себя несчастливой. Наоборот, сознание собственной энергии, богатых ощущений и блестящей работы ума давали ей такую полноту жизни, которую даже трудно было сравнить с жалкими страстями плотских отношений. Пат усмехнулась, вспомнив сегодняшний вопрос мужа. Неужели он всерьез думает, что она стала синим чулком? «Все-таки Остров так возвращает к эмоциям, к первоначальному, к себе»… – и, не успев додумать этой последней мысли, Пат махнула рукой, сбросила халат и нырнула в темный жар постели, разогретой одиноким мужским телом.
Утром двадцать четвертого Селия выгнала всех из дома, и Пат с отцом отправились на старинное кладбище в Бассетлоу, где покоились останки всех Фоулбартов, а Стив с Джанет решили вместе побродить по городу. Джанет безумно любила эти редкие прогулки с отцом: Стив, хотя и родился в Индокитае, умел проникать в любую культуру и рассказывать о совершенно чужих местах с жаром и подробностями, не снившимися аборигенам.
Вот и сейчас, крепко держа Джанет за руку, он повел ее прямо на Маркет-Плэйс – гудящую, пеструю, переполненную оживленным народом, то и дело переходящим с пешеходной зоны в центре улицы в многочисленные крошечные магазинчики. Они остановились рядом с уродливым зданием Кансл-Хауса.
– А теперь закрой глаза, майне либе фройляйн,[17] и представь себе, что этот гул идет вовсе не от праздношатающихся твоих современников, а от деревянной обуви маленького племени снотов, которые основали здесь, в этой уютной долине свою деревеньку и назвали ее Снотингэхэм. Но недолго пришлось наслаждаться им мирной жизнью – на них налетели воинственные датчане и поставили над бедным народцем свой суровый жестокий датский закон, по которому можно было вешать и жечь местное население без разбора.
– И тут-то как раз появился Робин Гуд! – в восторге перебила его Джанет.
– Нет, Джи, до Робин Гуда было еще далеко. Только они чуть-чуть приноровились к этой жизни, как через двести лет явились еще более злобные норманны, часть крови которых течет, кстати, и в тебе, моя радость. Они окружили ветшавшие старые стены новыми, крепкими и высокими, а сам город разделили на две части, норманнскую и старую сакскую – и граница прошла как раз там, где мы сейчас с тобой стоим.
– А Робин? – снова спросила Джанет, как все ноттингемские дети, выросшая на легендах о стрелке из Шервудского леса.
– О, до него еще была война Алой и Белой Розы… Кстати, ты как-нибудь потом, дома, только когда мамы не будет, спой мне эту песню про розу, ладно?
– Конечно! Знаешь, я раскопала ее среди каких-то затхлых пластинок у нашей училки по хору, такая странная песня, но ужасно-ужасно красивая. И что эта война?
– Так вот, король Генрих Шестой, сражавшийся за Алую Розу, решил в эти смутные военные времена навести хоть какой-то порядок и придумал должность шерифа, который следил бы за всем и за все отвечал…
– И тогда-то Робин и начал с ним бороться, – удовлетворенно закончила Джанет. – Ах, папа, я бы тоже хотела быть мальчиком и убежать в леса!
– Ты прелестная девочка, а дальше будешь еще лучше…
– Нет, папа, девочки – они скучные, то есть, я хотела сказать, с ними скучно. А мальчишки! Знаешь, в них есть что-то такое, что с ними хочется… – Джанет замялась, не в состоянии подобрать нужного слова, – с ними хочется быть.
«Слышала бы эти речи Пат! – подумал Стив, на самом деле очень довольный такому отношению девочки к противоположному полу. – Дай Бог, из нее вырастет женщина, которая не будет из отношений с мужчиной делать проблему, а будет просто радоваться»…
А Джанет, видя реакцию отца, продолжала болтать:
– Они не такие, они нежные, только этого никто не видит. Знаешь, этот человек, ну, с пластинки про розу, у него такой нежный, такой печальный голос. Жаль, что пластинка разбилась. Но я тебе сама спою, пойдем. – Однако Джанет потащила Стива вовсе не в сторону дома, а в противоположную – в свою очередь показывать ему свою школу, музей и старый Королевский театр.
– Неужели ты никогда не бывал там?! А Чарли всегда водит меня на все премьеры! И там внутри, знаешь, что стоит? – Джанет сделала страшные глаза. – Статуя Лоуренса!
– Разведчика?! – удивился Стив, никак не предполагавший ни таких познаний у десятилетней дочери, ни наличия в театре памятника знаменитому английскому разведчику, хотя бы и написавшему неплохой роман о своих приключениях.
– Да нет, писателю, конечно!
– А почему тогда такой священный ужас? – улыбнулся Стив, уже догадывавшийся об ответе.
– Как, папа, разве ты не знаешь, что он написал страшную книгу? Бабушка даже заперла ее от меня на ключ!
– И правильно на данный момент сделала. Но, запомни, майне зюссе кляйне фрау, когда ты вырастешь, дай Бог, чтобы эта книга стала твоей настольной. – И, пресекая дальнейшие разговоры на эту тему, Стив повел дочку выпить горячего шоколада со знаменитыми печеньями в виде стрел, которые пекут только на родине Робин Гуда.
Пат вернулась домой, умытая ласково холодящим лицо рождественским снегом и размягченная детскими воспоминаниями. Но, снимая у знаменитого кованого ларя свою ярко-желтую горнолыжную куртку, она вдруг насторожилась: откуда-то сверху раздавался высокий, еще неуверенный, но чудесный детский голос. Пат прикусила губу – несомненно, это пела Джанет и пела что-то очень знакомое. Стараясь не скрипеть вековыми ступенями, Пат быстро поднялась наверх и подошла к полуоткрытой двери, ведущей в охотничий зал. Там, стоя у окна и победно глядя на Стива, сидевшего на диване и уронившего в руки начавшую седеть голову, стояла ее дочь и, старательно копируя запись, выводила: Вознеси из далей далеких розу сна…
После близости с мужем, вернувшейся в предрождественскую ночь в Ноттингеме, Пат вначале чувствовала досаду и раздражение. Но через некоторое время они прошли. Да, пусть эта близость была продиктована разнеживающими сердце воспоминаниями юности, которые всегда имеют над человеком неизъяснимую власть, пусть эта близость была по сути достаточно формальной – но она сняла с нее груз какой-то физической незавершенности. И Пат стала порой сама заходить в спальню к Стиву – заходить, когда ей этого хотелось. Близость с ним теперь казалась ей неизбежной и не самой интересной стороной их духовного общения.
И еще Пат полюбила компании, собиравшиеся в их огромном, но всегда уютном и гостеприимном доме. Одетая чуть ли не по-домашнему, она, тем не менее, блистала, а главное, умела направлять разговоры в интересное ей русло. Художники, сценаристы, философы – со всеми она говорила о том, что затрагивало лично ее, и, внутренне посмеиваясь, Пат не без удовольствия видела, как они тянутся к ней – не только по-человечески, но и по-мужски. И порой она представляла себе, каким кто-то из них мог оказаться в постели, но, вспоминая снежные пальцы и стальное тело хирурга из Токио, скоро переставала об этом думать. В конце концов, все они, так или иначе, сознательно или подсознательно, не таясь перед собой или глубоко пряча это желание, хотели одного – обладания. И самым неприятным было то, что они хотели обладания не только физического, но и духовного. Будучи свободной здоровой женщиной, Пат с легкостью могла бы удовлетворить физическое желание кого-то из них, но при мысли о том, что тут же, не успев остыть от объятий, они потребуют большего, она оставляла все как есть. И потому дразнила их и порой помыкала ими, но и это, в конце концов, стало скучно.

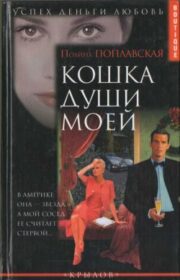
"Кошка души моей" отзывы
Отзывы читателей о книге "Кошка души моей". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Кошка души моей" друзьям в соцсетях.