А в пять утра Стиву сообщили, что его жена отлично родила прекрасную девочку в одиннадцать фунтов и в двадцать дюймов.
– Хотите посмотреть малышку? – приветливо улыбнулась накрахмаленная, шуршащая, как бабочка, сестра, широко открывшая рот, когда вместо ответа счастливый отец развернулся и вышел из клиники в своем дорогом китайском халате. Стив залез в машину, выхлебал из горлышка давно припасенную фляжку коньяку и заснул мертвецким сном человека, сделавшего трудное, но достойное дело.
А светловолосая девочка удивленно таращила на мир свои голубые глазенки.
Еще лежа на высоком родильном столе, Пат ощутила ни с чем не сравнимое чувство полного освобождения; она казалась себе пузырьком в бокале шампанского, легким, бездумным, пьянящим. И теперь в по-старинному просторной палате с высоким сводчатым потолком это чувство не покидало ее, хотя и смешалось с другим, смутным и необъяснимым – у нее была дочь.
Все эти страшные месяцы Пат хваталась за мысль о сыне, как за последний спасительный якорь. Она лелеяла и нежила эту мечту, в глубине души считая ее последним оправданием своей жизни. Сын, мальчик со средневековой картины, воплощение если не духа, то хотя бы плоти, надежда, зеркало души… Пат еще раз с надеждой заглянула в стоящий рядом кювез – нет, в сморщенном личике не было ни тени жаркой смуглости отца, даже волосы у малышки были рыжеватыми. И, словно в ответ на пристальный настороженный взгляд матери, она завозилась и жалобно раскрыла ротик. «Наверное, ее надо покормить», – испугалась Пат и стала вынимать грудь, отрывая от соска пропитанную молоком присохшую ткань. С каким-то недоумением она смотрела на огромный коричневый сосок и крошечный рот, не представляя, как они смогут соединиться. Девочка пронзительно закричала. Пат со страхом поднесла ее к груди, и когда ребенок каким-то неуловимым быстрым движением схватил ее, по телу молодой женщины неожиданно пробежала острая судорога наслаждения. «Мэт… Мэт…» – стучало у нее в висках, туманя сознание.
В этот момент дверь распахнулась, и вошел Стив, которого разбудило неугомонное майское солнце, за несколько часов превратившее машину в настоящую душегубку. Потирая одной рукой отросшую за ночь щетину, а другой – придерживая полы изумрудного халата с драконами, он смущенно улыбался, видимо не зная, что делать дальше.
– Стив, милый… – только и могла произнести Пат. Но он уже быстро направлялся к ней.
– Ты задушишь девчонку, глупенькая! – И Стив уверенным движением переложил ребенка, прижав пальцем край соска, который совершенно закрывал маленький носик. – Вот так и держи.
Пат с удивлением вскинула на него ввалившиеся блестящие глаза.
– Откуда ты…
– Мне тридцать три года, дорогая, чему же тут удивляться? Ты замечательно выглядишь и бэби тоже. – Стив втайне был очень рад тому, что родилась именно девочка: она меньше будет напоминать Пат о Мэтью, и ему самому с девочкой гораздо проще. – Я говорил с врачом, вас выпишут через пару дней, но мне завтра же нужно быть на студии. Я и так непозволительно транжирил время. Ты же месяц-полтора побудешь пока в Уэсте, прислугу я нанял. Мне необходимо приготовить дом, а тебе… Тебе привыкнуть к малышке и своим новым ощущениям. Лучше, если ты сделаешь это одна. И потихоньку возвращайся к мыслям о работе. Твоих родителей, я думаю, стоит поставить в известность уже из Трентона. Все будет хорошо, Пат. Я позвоню тебе, когда надо будет выезжать. – И, слегка прикоснувшись губами к красному личику, Стив ушел.
От глубокой обиды у Пат перехватило дыхание. И это все, что он мог ей сказать!? Ни благодарности, ни восторгов… С какой негой целовал бы сейчас ее грудь Мэт! С какой горькой нежностью смотрел бы на дочь!.. «Нет, – вдруг произнес где-то внутри нее холодный сухой голос рассудка, – Мэт мог бы и вовсе не появиться здесь. Он перебирал бы гитарные струны, ревниво охраняя свой мир от любого вторжения. Он хотел тебя, но не ребенка…» Тогда-то на лице Пат и появилось выражение легкой отстраненности, которое в дальнейшем так привлекало к ней людей и в то же время почти не позволяло надеяться на настоящее сближение с нею.
И на виллу в Ки Уэсте вернулась уже совсем другая женщина. Пат за две недели сумела так вышколить двух развязных чернокожих «мамм», что у нее оказалось множество свободного времени для работы. Ей пришла в голову замечательная идея: вещание будущего канала на страны Латинской Америки надо вести параллельно на английском и испанском языках, что значительно расширит аудиторию.
Пат взялась за испанскую музыку, и в доме весь день звучали то призывно-тоскливые, то страстно-гордые испанские напевы.
Правда, и девочка оказалась на удивление спокойной и здоровой. Единственное, что огорчало Пат, было ее странное отношение к ребенку: она не испытывала того восторженного умиления, которого ожидала последние месяцы. Наоборот, ее уже начинало раздражать постоянно подтекавшее из сосков молоко и сами, ставшие еще более тяжелыми груди, которые не давали почувствовать себя, как прежде, телесно легкой и независимой. Да, зависимость – вот что больше всего угнетало ее. Мэту она отдала себя всю, она жаждала полного подчинения, растворения, сладкого рабства – и это оказалось никому не нужным. И теперь, пристально всматриваясь в дочь во время кормления, Пат со страхом ловила себя на мысли о том, что, вероятно, именно эти чувства испытал бы сейчас и Мэт: удивление, отстраненное любопытство и некую угрозу своему внутреннему миру.
Кроме того, ее тело стало тосковать по мужчине. Окончательно созревшее после материнства, оно неумолимо требовало любви, и если днем в короткие промежутки между работой и дочерью, едва прикрыв от усталости глаза, Пат видела перед собой орлиное лицо и гибкое тело Мэта, то ночами – душными, влажными ночами Флориды, словно самой природой созданными для любви – ей грезилось что-то неведомое, властно ее сминающее…
«Надо возвращаться в Трентон», – все чаще повторяла Пат и все тревожней поглядывала на молчащий до сих пор телефон.
Со дня смерти Мэтью прошло уже полгода.
Стив не торопился, преодолевая ту тысячу миль, что отделяла Майами от Трентона. Для него тоже начиналась новая жизнь. Выросший в семье ирландки и канадца, он всегда и везде на первое место ставил основательность и свободу, или, вернее, свободу и основательность, если учитывать, что первое досталось ему от матери, а второе от отца. Дитя войны, он был равнодушен к комфорту, а если говорить честно, то и к быту вообще. В его огромной холостяцкой квартире в самой привилегированной части города царил смешанный дух эпох биг-бэндов, Поп-фестиваля в Монтерее и – одновременно – прагматизма, захватившего страну после гибели Кеннеди. Он был щедр без расточительства, мужественен без бравады и никогда ничего не обещал. За это его любили и мужчины, и женщины, тем более что к последним он, с детства влюбившийся в прозу великого Хема, был всегда бережно насмешлив и добр.
И вот теперь ему предстояло изменить эту жизнь, впустив туда женщину, к которой он не пылал страстью, и ребенка, который был зачат его другом в предсмертной тоске погибающей молодости. Стив знал, что это никоим образом не помешает его работе и стремительно развивающейся карьере, скорее, наоборот… Но внутренней гармонии и спокойствию?
Обручальное кольцо на пальце бликовало при каждом повороте руля, и Стив каждый раз при этом задумчиво потирал переносицу, словно не решаясь на какое-то давно задуманное дело.
Наконец, после большой авторазвязки в районе Портсмут-Чесапик он не выдержал и, притормозив у первого дорожного бистро, набрал номер Института биоэнергетики. Профессор Вирц оказалась на семинаре в Нью-Орлеане. Стив едва не выругался в трубку. Быть совсем неподалеку и дать такого маху! Но вспомнив поговорку, что бешеный скунс домчится и до Кочрейна, он усмехнулся, развернул машину и погнал назад через Атланту. Мысль о Пат совершенно его не смущала; он был искренне рад, что все прошло замечательно, что малышка здорова и что теперь, после стольких месяцев напряжения и опасений, он имеет полное право получить награду и лично для себя.
Найти место, где проходил семинар по книге Райха «Массовая психология фашизма», для Шерфорда с его телевизионными связями по всей стране не составило особого труда, и через полчаса он уже стоял у выхода безликого бетонного здания, имевшего претензию на кубизм.
«И почему эти душекопальщики всегда выбирают для себя такие убогие здания?» – мелькнуло в голове у Стива, но в тот же момент он перестал замечать эту убогость, ибо в дверях показалась Руфь.
– Дьявольщина! – Она свела свои длинные атласные брови в строгую линию. – Что тебе здесь надо, Стив?
На первый взгляд ему показалось, что Руфь совсем не изменилась за те семь лет, что они не виделись, но, приглядевшись внимательней, он заметил, что лицо ее, оставаясь все таким же прекрасно-гордым, потеряло свою жесткость и стало еще больше похоже на лицо Мэта в его хорошие минуты.
– Увидеть тебя, – просто ответил Стив и не солгал. – Я давно хотел увидеть тебя – вот и все.
Руфь повернулась к высокому мужчине с окладистой славянской бородой.
– Подождите меня в отеле, Божедар. Или нет, не ждите. – И, больше не обращая на него внимания, она взяла Стива под руку. – Опять нужна моя помощь?
– Нет. Или, если честно, да. Я хочу тебя. – Едва Стив выговорил эти откровенные слова, вырвавшиеся помимо его воли, то сразу понял, каких усилий на самом деле стоили ему эти месяцы с Пат: полное воздержание при постоянно открытом глазам и рукам бесстыдном в своем горе и материнстве женском теле. – Да, – уже вполне осознанно повторил он. – Я тебя хочу.
И только после нескольких часов в каком-то молодежном хотеле, когда совершенно истерзанные они лежали и курили, поставив меж собой пепельницу, Стив заметил в иссиня-черных волосах седые нити. Угадав его взгляд, она прикусила губу.
– Это – Мэтью.
– А я женился, Руфь.

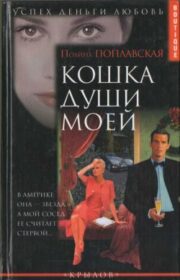
"Кошка души моей" отзывы
Отзывы читателей о книге "Кошка души моей". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Кошка души моей" друзьям в соцсетях.