— Ну, совсем-то, пожалуй, не замерзнет, он его как следует утеплил изнутри, да и снаружи обшил. Мне приятно слышать, как ты переживаешь за него, только лучше бы ты ему самому все это сказала. И еще, есть у меня одна догадка, что недельки через две или три ты составишь ему там компанию. Тогда вам не то что холодно, а жарко будет.
Я порозовела от таких откровенных слов и промямлила:
— Не знаю, врач вообще-то говорил, что два месяца нельзя.
— Да сказать что угодно можно, хоть год, только глупо это.
Лежа в роддоме, чего только я не передумала от тоски и скуки. И про то, что было, и про то, что будет. Каких только прекрасных планов я не построила! Возрождение семьи — это главное, решила я, поэтому по возвращении сделаю все, чтобы мы жили в мире и согласии. Конечно, мы не ссорились и даже разговаривали куда больше, чем раньше, ведь Катюшка и уход за ней давали массу самых разных поводов для этого.
Тим по мере возможности старался мне помочь. Федосья была так счастлива в первый день, даже смеялась вовсю за столом, когда мы праздновали шампанским рождение Катюшки. Еще дня два она продолжала улыбаться, словно бы по инерции, но уже который день на ее лице вместо улыбки печаль и тревога. Еще иногда мне чудится, что она смотрит с немым укором на меня. В таких случаях я отворачиваюсь поскорее, а она все молчит. Может быть, ждет, когда я заговорю?
От ухода за ребенком я не уставала, да, собственно, и не от чего было. Ребенок спокойный. Опять же памперсы эти. Может, они и не очень хороши, спорить не буду, сама иногда смотрю на них в сомнении, сплошная ведь синтетика, но зато удобно-то как! Да еще Федосья взялась мне помогать прямо не на шутку: то обед сготовит, то полы намоет, мне почти ничего и не остается.
Отсутствие подруги я ощущала, ждала ее, а она заявилась только через месяц. Была сумрачная какая-то, похудевшая, говорила на удивление мало. Оживилась, только когда заметила на вешалке мою шубу. Я ее специально в шкаф не вешала, нравилось мне ее трогать, гладить мех, а что мне еще с ней было делать, когда я почти не выходила из дому? Симка уже домой собиралась, всего часок и посидела, и тут вдруг шубу углядела.
— Ой, Тоня! — Она схватилась за сердце. Я даже испугалась, что ей плохо сделалось. — Так это что, норка?! Правда норка? Ну ты даешь! Ни у кого во всей деревне такой нет, только у тебя, всех переплюнула! Ой, еще и шапочка есть?
Можно я надену, ну хоть на минуточку? — Несколько минут Сима вертелась перед зеркалом, с улыбкой оглядывая себя то сзади, то спереди, потом улыбка увяла, даже слезы выступили. — Несчастливая я, не будет у меня никогда такой! Кто мне ее купит?
— Ну и что же тебе вчера подружка сказала? — спросила меня Федосья после того, как мы с ней почти полдня промолчали. Она обычно приходила к нам часов в девять утра, а уходила около четырех или пяти. — Да, Сима не та стала. Не знаю, поделилась она с тобой или нет, только не работает она больше. Мать ей запретила, сказала, чтоб дома сидела с ребенком. Только слышно, ссорятся они слишком, такой крик у них иной раз стоит, что держись. Бедный малыш, в нелегкой семье ему досталось родиться.
Чего-нибудь в этом роде я и ожидала услышать, поэтому вздохнула, но промолчала, чувствовала, что неспроста Федосья разговор этот затеяла, небось за меня сейчас примется. И точно, как в воду глядела.
— Вижу, что все по-прежнему у вас, лучше нисколько не становится, — словно невзначай уронила она.
— Да, вы правы, все так же. Но я не знаю, что тут можно сделать, просто ума не приложу.
— И спите вы врозь? — довольно жестко спросила она.
Я почувствовала себя так, словно меня в грудь ударили.
— Да, врозь. Но если вы считаете, что это я должна приставать к нему с ласками и уговаривать его оказать мне великую милость переспать со мной, то сильно ошибаетесь. Не буду, и не ждите!
— Но хотя бы просто поговорить с ним ты пробовала? Ведь наверняка нет, ты упрямая, а он еще упрямее, вот и молчите оба.
— Отчего же? Мы разговариваем. Он спросит — я отвечу, а о чем еще говорить с ним, я не знаю. Не думайте, что я от такой жизни в восторге, мне тоже наши отношения не нравятся.
Собираясь уходить, уже почти перед порогом, Федосья неожиданно сказала:
— Ты думаешь, что вот я все учу тебя, учу, а сама свою жизнь кое-как прожила, в одиночестве. Только, знаешь, очень горько мне видеть, как ты мои ошибки почти в точности повторяешь.
— Да нет, я ничего такого и не думала даже, — поспешила я ее заверить, удивленная и слегка испуганная ее откровениями.
— Поговори с Тимом по душам, очень тебя прошу. Прерви этот ваш дурацкий заговор молчания, рискни спросить, как он к тебе относится, глядишь, что-нибудь новое узнаешь.
Федосья уж давно ушла, а я, вконец озадаченная ее советом, весь вечер думала да гадала: имела ли она в виду что-то конкретное или просто так рассуждала?
Трудно сказать, сколько бы я еще тянула кота за хвост и длила этот, как сказала Федосья, заговор молчания. Но через два дня после нашего с ней разговора ко мне вдруг влетела, размахивая какой-то бумажонкой и приплясывая, Симка, оставив дверь нараспашку.
— Ты что, совсем сдурела? Ребенка мне простудишь! Не лето небось на дворе, — кинулась я закрывать дверь.
Симка продолжала скакать как сумасшедшая и вместо слов выдавать какое-то невразумительное бульканье. Наконец, плюхнулась на диван и важно мне заявила:
— Все-таки выпустили его, Тонь, представляешь? Вчистую отпустили.
— Неужели Леню твоего отпустили? Ф-фу, ну, слава богу! Я уж подумала, что отчима отпустили, совсем перепугалась.
— Леню, Ленечку моего ненаглядного отпустили, освободили досрочно за хорошее поведение, вот!
Она делилась со мной планами, как хорошо, как весело они теперь заживут, может, даже от родителей удастся съехать куда-нибудь. Потом вскочила, не в силах сидеть на месте. Веселье так и бурлило в ней: она дрыгала ногами и крутилась. Сплясав нечто среднее между гопаком и барыней, Симка тут же умчалась, унося с собой свою радость. Это очень хорошо, что она счастлива, что возвращается к ней ее долгожданный муж, да только моя жизнь показалась мне в этот момент еще более тусклой и безнадежной.
Когда через час вернулся Тим, а он теперь не задерживался очень уж поздно, еще до времени купания ребенка приходил, я решилась на разговор.
Накрывая ужин для него, я пересказывала Симкины новости. Он слушал, не поднимая глаз, непонятно было, знал их уже или нет.
— Хорошо, — равнодушно обронил Тим, берясь за вилку. — Теперь она успокоится хоть. — И бросил на меня непонятный, быстрый взгляд.
Тим ел, а я раздумывала: о чем это он говорил? О том ли, что Симка перестанет шашни крутить с Хорьком, или же о том, что она будет за мужа спокойна? Потом спохватилась, что забиваю себе голову ерундой, которая меня напрямую не касается, и ринулась в разговор, словно в омут прыгнула.
— Я давно хотела тебя спросить, Тим, как ты ко мне относишься?
Он не донес вилку до рта и уставился на меня так, что я даже внутренне поежилась. Ни дать ни взять инквизитор.
— Ты о чем?
— О наших отношениях, о чем же еще? Ведь плохо же мы с тобой живем, разве нет? — Я еще чего-нибудь сказала бы, но не успела.
Тим крякнул, пробормотал себе под нос какое-то замысловатое ругательство, хотя раньше при мне никогда не ругался, и наконец хрипло выдавил:
— Что, обратно разводимся?
— Ты что? Какой еще развод? Разве я об этом тебе говорю? — оторопела я от такого толкования моих слов.
— А о чем? О чем ты говоришь? Всю душу ты мне испоганила, все нервы вымотала! Только каждый день и жду, что ты об этом проклятом разводе заговоришь. Думал, раз ребенок, угомонишься ты, но тебе и ребенок не помеха! — выкрикивал он эти фразы, кружа по комнате.
Я следила за ним испуганным взглядом и силилась понять, почему разговор принял такой жуткий оборот? Наконец, Тим несколько успокоился и сел, бессильно сгорбившись на стуле.
— Что ж, насильно мил не будешь. Понимаю, держать не стану, не бойся. Иди куда хочешь, но без ребенка, ребенок останется со мной, это ясно тебе?
Большим усилием воли я удержалась от того, чтобы не закричать, но голос все же у меня задрожал:
— Наверное, я очень глупая, потому что ничего не понимаю, куда я должна идти? Ты меня что, решил выгнать? Вот так просто выгнать? Но за что?
— Вот только жертву дурного обращения из себя не строй! — скрипнул Тим зубами. — Терпеть не могу притворства.
Если минуту назад я едва удерживалась, чтобы не заплакать, то теперь слез и близко не было. Наоборот, от гнева у меня буквально потемнело в глазах.
— А мне и строить ничего не надо, я и есть эта самая жертва! Я не жена тебе, не любовница, не друг, кто я тебе, домработница, что ли? Ты в мою сторону не глядишь, не то что слово ласковое сказать! Шубу мне подарил, эка невидаль! Да забери ее назад, отдай вон Наташке Зареченской, раз уж ты с ней любовь крутишь. Или училке, небось с ней тоже спал? Говори, спал? — понесло меня на волне гнева уже куда-то совсем не в ту сторону, но остановиться я не могла.
Он смотрел на меня как-то так, словно за моими словами был спрятан еще какой-то смысл, и силился его отгадать.
— А тебе не все равно, с кем я сплю? — спросил наконец медленно и тяжело.
У меня перехватило горло, потому я заговорила не сразу, боясь заплакать или сорваться на позорный бабий визг.
— Мне не все равно. Это тебе все равно, с кем спать, лишь бы другая была, лишь бы не я. Я только не понимаю, зачем ты женился на мне, если до такой степени ненавидишь меня и брезгуешь мною? — Чувствуя, что вот-вот разревусь как последняя размазня, я схватила грязную тарелку и полетела с ней на кухню. Но Тим перехватил меня, после короткой борьбы выхватил тарелку и бросил ее на пол.

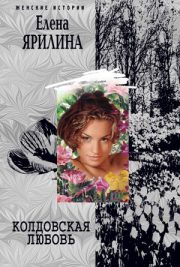
"Колдовская любовь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Колдовская любовь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Колдовская любовь" друзьям в соцсетях.