— Однако! — вытаращила я глаза. Это что же, она ко мне из-за Тима пришлепала? Ну не мужик, а прямо Казанова какой-то! А у нас в деревне его все за дурачка числили, вот тебе и дурачок, на ходу подметки режет!
— Ох! И чудачка же ты! Говорю с тобой, а ты ровно и не слышишь, глазищи куда-то уставила, как неживая. Ты это, давай завязывай, у меня ж нервы не железные.
— Больше не буду, я просто задумалась.
— Бизнесмен он у тебя или как? — задала она вдруг неожиданный вопрос.
— Бизнесмен, — не совсем уверенно согласилась я.
— Я так и думала! — всплеснула руками девица, и глаза у нее аж загорелись. — И большой ларек у него?
— Нет у него никакого ларька. Лошадей он разводит.
— Лошаде-ей? Так это ж не бизнесмен никакой, это ж фермер, фу-у, а я-то думала! А деньги-то у него откуда?
— Так все оттуда, от лошадей! А почему ты думаешь, что у него денег много? — додумалась я поинтересоваться.
— Ой, тоже мне загадка века! А это что? — И она широко развела руки, словно намеревалась обхватить всю палату.
— Что — это? — весьма глупо переспросила я.
— Ты это, дурочку-то из себя не строй, — принахмурилась девица, — уж теперь ничего не скроешь. За палату мужик твой платил? Платил. А она не дешевая, палата эта. А врачам и сеструхам в карманы сколько насовал? Думаешь, никто не знает? То-то. Только зря он совал им, ничего делать не будут, ни без денег, ни за деньги, уж так заведено здесь. Даже и не мечтай!
— Разве эта палата за деньги?
У девицы стало такое насмешливое выражение лица, что я поспешила оправдаться:
— Я же без сознания была, не знаю, кому он там и за что платил. А ты местная?
— Не-а, не местная. С Орловской области я, слыхала, наверное? Вовка мой служил там у нас в части, цельный год болтался. Вот на танцах меня и заприметил, и ну за мной ухлестывать! У меня ухажер-то был, я ведь девка видная, но он враз отбил, налетел как коршун и отбил. — И она поправила локон, сползающий на лоб, бессознательно-кокетливым жестом женщины, знающей себе цену. — Уж как он добивался меня, как обхаживал, ровно голубь вокруг голубки кружил, да не на таковскую напал! После свадьбы, говорю, хоть ложкой хлебай, а до того ни-ни. — Она мечтательно вздохнула, припомнив, видно, те золотые свои денечки. От глубокого вздоха грудь ее всколыхнулась.
Ох и молока у нее, наверное! — позавидовала я невольно.
— У тебя кто, девочка или мальчик?
— Пацан у меня, пацан! — с большой гордостью ответила гостья. — Уж Вовка мой до того рад, прям не знает, что и делать, аж прыгает. Уж больно он боялся, что девка родится, аж зубами скрипел, во как боялся!
— А чем же девочка плоха? У меня, например, дочка, и я очень рада.
— Ой, разве ж в этом дело? — отмахнулась она. — Мне по фигу, парень или девка, возиться все одно. У двух Вовкиных старших братьев по пацану народилось, уж до того они этим гордые, ровно индюки ходят, вот он и боялся, что засмеют его, коли у нас вдруг девка будет. — Она улыбалась, сидя на краешке моей постели и оглаживая свои белые широкие колени. Потом вспомнила что-то и посмурнела. — А вот палату он мне отдельную не откупил, хоть и рад до смерти, а не откупил, — затосковала моя собеседница.
— Зря убиваешься, если чувствуешь себя хорошо, то на что тебе эта палата? Один расход, и ничего больше, а деньги он и так потратил, Вовка твой. Приданое младенцу, да коляска, да кроватка, — попробовала я ее немного утешить, но не получилось.
— Да прямо, держи карман шире! Для ребенка все старое пойдет, с племянников, небось ни единой копейки не потратил, тот еще жадюга. А уж на меня ни в жизнь не раскошелится, даже если горы золотые где надыбает, во какой! — невесело ухмыльнулась моя собеседница. Потом глаза ее заблестели подозрительной влагой, и она добавила почти шепотом, припомнив самую большую свою обиду: — Жратву домашнюю мне носит, а уж чтоб конфетинку какую купить, ни-ни. И цветиков не принес, а я так хотела, чтоб непременно цветики были, как у всех. Вон у тебя какие веники стоят, всю больницу подмести можно, а у меня ни одного.
Я покосилась на две здоровые банки на тумбочке, наполненные вперемешку розами, гвоздиками и хризантемами. Когда я очнулась, они уже стояли.
— Уж на рождение сына мог бы купить цветов. А зачем ты замуж за него пошла, сильно любила его?
Она подумала над моим вопросом и в ответ только пожала плечами.
И как-то сразу, словно по наитию, мне все стало ясно про нее, будто сама она призналась или объяснил кто. Никакой любви у нее нет, не было и, жутко сказать, может, никогда и не будет. А замуж она вышла, чтобы от подруг не отстать, все ведь выходят, надо и ей выходить. И тут ухажер подвернулся, небось слова какие-нибудь красивые говорил, уж хоть на это-то, я думаю, он способен. Так чего ж не выйти? Но могу голову прозакладывать, что хоть и твердит она про себя, а может, и вслух, что все эти чувства ерунда, каши из них не сварить и шубы не сшить, главное, чтоб не пил, не бил, не гулял, чтоб хозяйственный был, да только в самой глубокой своей глубине переживает она, чувствует какую-то недостачу.
Девица словно прочитала жалельные мои мысли, встрепенулась, стряхнула с себя уныние, задрала круглый подбородок и спросила почти надменно:
— Зовут-то тебя как? А то говорим, говорим, а познакомиться позабыли.
Я ответила, уже зная, что мое имя ей по вкусу не придется, так оно и вышло.
— Как, говоришь, Тоня? Ну и имечко тебе дадено, впрочем, ты местная, здесь все какие-то чудные, а меня вот Луизой зовут! — И как ни в чем не бывало она поднялась и поплыла к выходу, очень довольная, что непривычным, иностранным именем своим сквиталась со мной за цветы и отдельную палату.
Я не знала, смеяться мне ей вслед или пожалеть ее? Все-таки странный мы, бабы, народ, все-то нам надо друг перед дружкой выхваляться, словно дела другого у нас нет.
Катеньку, кровиночку мою, дочку мою ненаглядную, мне принесли только на пятый день, когда перестали мне капельницу ставить, сказали, чтобы к груди приучала. И предупредили, что не просто будет, и вправду не просто оказалось. Ее ведь, пока не принесли, кормили из бутылочки, молочко из нее само льется, а из груди тянуть надо, стараться. Ох и капризничала же она у меня. Возьмет сосок, почмокает и выплюнет. Я взмокла вся, до того переволновалась с ней. Пришла медсестричка забирать ее, молоденькая такая, но грубая, жуть просто. Девочка моя вроде бы только присосалась, вот я и попросила оставить мне ее, пока не наестся, а то как же иначе приучать-то ее?
— Щас, раскомандовалась! Не положено, значит, всем не положено! — уперлась — и ни в какую, хорошо, что Федосья подоспела, сунула ей денежку в карман. Вот за эту денежку мне и оставили ребенка еще на полчаса, но и уходя, сестра все еще ворчала, словно я у нее звезду кремлевскую с башни просила, а не позволения покормить своим молоком своего же ребенка!
То, что мне притащили на выписку, ни в каком сне не могло присниться. Гладя рукой коричневый мех, я растерянно спросила у медсестры:
— Это вправду для меня или перепутали что-то?
Она рассмеялась. Словно в трансе, выплыла я из дверей в длиннополой, щегольской шубе из сверкающего меха, на голове у меня красовалась из того же меха шапочка, чуть-чуть великоватая мне, но все это такие пустяки! Главное, что мы живы — и ребенок, и я, — что Тимофей гордо несет на руках дочку, а улыбающаяся сквозь слезы Федосья идет рядом с ним, и мы все вместе поедем сейчас домой. Вот что самое главное!
Дома меня тоже ждали сюрпризы. Спальню, в которой мы с Тимофеем когда-то спали, очень недолго впрочем, он переделал под детскую. Видно, пока я в больнице бока отлеживала, он тут старался, стены оклеил обоями со всякими смешными зверюшками, заново выкрасил пол и бросил на него красивый круглый ковер. Коврами наших не удивишь, они были почти у всех — этот предмет роскоши пользовался в нашей деревне большой популярностью, но вот круглых я что-то ни у кого не приметила, и тут Тим отличился. Помимо детской кроватки, были еще столик со стульчиками, на которых громоздилась масса игрушек. Не иначе как целый игрушечный магазин переселился к нам сюда, ясно было, что для ребенка Тим ничего не жалел, в лепешку был готов расшибиться. Но и моя кровать стояла тоже здесь, что было в общем-то понятно: ребенок еще очень мал, и ночью мне надо быть к нему поближе. А вот то, что подушка на кровати лежала только одна и, значит, Тим будет спать не здесь, отдельно от меня, как-то настораживало.
Я покормила Катюшку, поменяла ей памперс, бельишко, и та немедленно уснула. В отличие от Симкиного Темы она почти совсем не плакала, по крайней мере пока, только кряхтела, когда ей что-то не нравилось, и много спала. Собственно говоря, она только и делала, что ела да спала.
Я вышла в гостиную и услышала, как хлопнула дверь, Тим куда-то помчался. Неужто даже сейчас он без своих лошадок часа прожить не может?
— Представляешь, чего только не накупили, даже ананасы и киви он купил, а про хлеб из головы вон! — выглянула из кухни Федосья.
Я бродила по дому, вроде как заново знакомилась с ним. В коридорчике почему-то была распахнута обычно всегда закрытая дверь в чуланчик, и я даже рот открыла от удивления. Тим переделал чуланчик под крохотную спаленку, но все, что надо, в ней было: небольшой встроенный шкаф, еще пахнущий свежим деревом, кровать, покрытая пледом, прикроватная тумбочка, тоже самодельная. Понятно, шкаф и тумбочку ему пришлось делать самому — под размеры чуланчика подгонял. На тумбочке стоял будильник, лежала книга с закладкой, на стуле возле кровати болтался знакомый домашний свитер Тима, значит, он уже обжил помещеньице.
— Тим с ума сошел! — решительно объявила я Федосье, входя в кухню. — В чулане же холодно, вся зима еще впереди, как он там спать собирается? Ведь замерзнет!

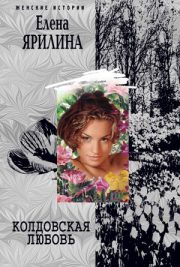
"Колдовская любовь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Колдовская любовь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Колдовская любовь" друзьям в соцсетях.