Тата Ефремова
Клуб "Твайлайт". Часть 1
Глава 1
Мергелевск, июль 2017 года
Первый день отпуска начался с семейной драки. Нет, это не мы с Валерой подрались, упаси господи. Это Тимоша с Кысей устроили разборки с погоней. Поскольку из-за жары мы с Саввой спали на матрасах в зале, поближе к кондиционеру, оба зверя пробежались когтями по нашим спинам, а потом унеслись в коридор. Савва сел и начал хохотать. Я застонала, не отнимая головы от подушки. Ничто, никто и никогда не превратит наш дом в образцовое жилище. В нем всегда будут ободраны обои, разлита вода из мисок, и наши бедные молчаливые рыбы будут до конца недолгих дней своих смиренно предоставлять свой аквариум в качестве экологической поилки для двух розовых языков.
Валера сказал, что ссора произошла из-за говяжьей косточки, которую Тимоша спрятал на кресле под гобеленовой накидкой. Кыся всего-то принюхалась к складкам и покопалась там лапой, а Тимоша немедленно устроил эль скандаль.
— Не понимаю, — за два дня до этого ворчал Валера, который обнаружил в своей наволочке порядком подтухшую куриную лапку (он ее по запаху как раз и обнаружил), — что ему, еды не хватает? Что за беличьи повадки?
— Это он из-за диеты, — объяснила я. — как только мы стали ограничивать его в питании, он подумал, что в нашей семье наступил устойчивый финансовый кризис и пора делать запасы.
Мы как раз сидели на кухне, и Валера то и дело подбегал к раковине и мыл руки после контакта с лапкой. Запах оказался стойким. Подушку пришлось выбросить, наволочку и простыни перестирать. Но Валера все равно принюхивался.
— Дурдом, — сказал Валера, показывая на Тимошу, который со скорбным видом стоял над миской с сухим кормом. — Цирк.
— Театр, — возразила я. — Посмотри, каков актер.
Тимоша глядел на нас, подпустив в глаза слезу и прижав уши. Если бы не пузо, растекшееся по полу, образ голодной, несчастной, всеми преданной собачки, был бы абсолютно аутентичен. Пузо портило всю картину. Ветеринар-диетолог, к которой мы обратились после того, как песик в очередной раз устроил нам газовую атаку, увидев Тимофея, долго ругалась:
— Хотите сохранить собаке жизнь и относительно активную старость? Немедленно на диету!
Мы-то полагали, что Тимоша как «дворянин и потомок дворян», может позволить себе больше, чем его породистые собратья, и частенько делились с ним едой со стола. Увы! Отныне альтернативой диете могла стать только покупка набора противогазов для всей семьи. Мы предпочли диету. Тимоша нас возненавидел. Внук встал на сторону собаки.
— Фу, гадость, — сказал Савва, попробовав коричневый комочек из пакета с диетическим собачьим кормом. — Сами бы такое ели.
— Дурдом, — сказал Валера, воздев руки к небу.
— Театр, — одобрительно прокомментировала я.
Теперь Савва сидел на матрасе и хихикал. Валера приоткрыл дверь в зал и шепотом сказал:
— Дай бабушке выспаться. Пошли, я тебе гренки сделаю.
От счастья, что могу немного поспать, я опять застонала и обняла подушку, но запах гренок и кофе окончательно изгнал сон из моей головы. Я встала, накинула халат прямо поверх ночной рубашки и поплелась на кухню. Вся семья встретила меня одобрительными нечленораздельными звуками. Все жрали. Даже Тимоша с подавленным видом жевал свой Ройял Канин. Он бы предпочел истекающую маслом гренку, но кто ж ему её теперь даст!
— Ты созвонилась с Норкиным? — спросил муж, когда я уселась, путаясь в полах халата.
— Угу, — сказала я, дуя на кофе, — договорились встретиться завтра в театре.
Валера отвернулся к мойке, загремел посудой.
— Не понимаю, зачем тебе это?
Я вздохнула:
— Зая, мы же уже все обсудили.
— Мы можем это обсуждать каждый день, — бросил муж через плечо, — а лучше все равно не станет.
Я опять вздохнула. Повесть «Любовь дель-арте», вышедшая в альманахе «Летопись Современности» и завоевавшая престижную литературную премию «Вавилон», была его любимым произведением. Он вообще всегда читает и хвалит то, что я пишу. Он — мой самый чуткий советчик и критик. Но «Любовь дель-арте» была его гордостью, его настольной книгой.
— Мало того, что из прекрасной повести, твоими, кстати, стараниями, получилась средненькая пьеса, — сказал Валера, — во что эту твою пьесу-переделку превратит Норкин? Ты же видела его «Мышеловку»[1]! Из замечательного классического детектива сотворить эдакую пошлость! Вспомни, у него там…
— Не при ребенке, — предупредительно вставила я.
Ну да, у него там сержант Троттер приезжает в пансион под видом женщины и полпьесы ходит по сцене в нижнем дамском белье, миссис Бойл оказывается зоофилкой и покушается на честь хозяйского спаниэля и так далее, всего не перечислить. Новаторство новаторством, конечно, но за «Мышеловку» Норкину крупно влетело. Чтобы не получить пинка под зад, он резко конформировал и согласился популяризовать любого местного автора, на выбор городской театральной комиссии. Комиссия выбрала меня. Завтра я иду знакомиться с местным «скандально известным, остро чувствующим, противостоящим ханжеской морали современности» и так далее. Валера уговаривает меня отказаться, иначе моя книга будет навсегда погублена. Я считаю, что она уже погублена. Для того, чтобы превратить ее в пьесу, пришлось резать скальпелем по живому. Как ни пыталась я свести потери к минимуму, из истории о застрявшем в торговом центре лифте и разыгравшейся на фоне этого комедии положений с переодеваниями и персонажами, словно спустившимися с подмостков площадного театра, получился пошловатый фарс.
— Откажись, — сказал Валера, наливая себе еще одну чашку кофе. — Ты ничего не потеряешь. В деньгах мы не нуждаемся, сама знаешь, какие у нас с тобой скромные потребности. Слава у тебя уже есть, местечковая, правда, но ведь ты и об этом-то не мечтала. Глядишь, и издавать будут потихоньку.
— Как я теперь откажусь? — пробормотала я с тоской. — Даже в газете о пьесе писали, Норкин уже интервью дал. Мол, автор — лауреат, местная знаменитость, «ее писательский дар распустился на фоне мергелевых[2] гор и сияющей глади южной бухты».
— Капец, — согласился Валера.
— Не при ребенке, — машинально сказала я.
Мы помолчали. Муж угрюмо заметил:
— И все-таки ты можешь еще отказаться. Подумай.
Когда в четверг я добралась до театра по пробкам, вся взмыленная и с колотящимся сердцем, там вовсю шла репетиция. Я слышала, что Норкин в очередной раз ставит что-то авангардное и провокационное. Режиссер гонял по сцене субтильную девицу с огромными глазищами. Казалось, что ее вот-вот унесет за кулисы поток прохладного воздуха, дующий в зале с потолка и смягчающий летний зной. Девица была одета в джинсы и вязаную кофту. Норкин читал реплики за ее партнера. Сцена изображала захламленную квартиру. Анорексичная актриса бродила по периметру, брала с полок невидимые книги, падала в скрипучие кресла, восклицая: «Боже мой, пыль, сколько пыли! Антуан, ты решил превратить меня в платяную моль?» «Нет, Мадлен, я хочу превратить тебя в книжную чешуйницу!», — сумрачно бубнил режиссер.
Капец моей пьесе, мысленно повторила я за мужем.
Минут через пятнадцать, когда я начала худо-бедно вникать в смысл действа, Норкин с неудовольствием оглянулся и объявил перерыв.
— Вера Алексеевна?
Мы пожали друг другу руки. Ладонь у Норкина была вялая, пессимистичная. Он не скрывал, что постановка «Любви Дель-арте» — это компромисс. Он, как наш Тимоша, хотел жирную котлету, а получал под нос сухой корм.
— Ознакомился с вашей пьесой, — суховато сообщил мне Норкин. — Будем работать?
— А что это было? — я кивнула на сцену, уклоняясь от прямого ответа. — Очень… новаторская вещь
— Да-да, — оживился Норкин, — исключительно глубокое произведение. Автор — малоизвестный у нас норвежский драматург. В середине сюжета — драма молодого человека, до двадцати лет, в силу… ээээ… семейных обстоятельств полагавшего, что он на самом деле девушка. И вот, по ходу пьесы его женская душа, заточенная в мужском теле…
— А девочка? — спросила я, запутавшись. — Вон та, худенькая.
— Это прототип, альтер-эго главного героя, — грустно сообщил постановщик. — По мнению автора, лишний персонаж, я ввел его самостоятельно … сам связывался с автором, скромно поделился своим видением пьесы… но тот, знаете ли… — Норкин скорбно поднял глаза к софитам. — Никто не чужд косности. Даже гении.
— О, — сказала я.
Мы помолчали. Я собиралась с духом, чтобы сказать твердое «нет». Черт с ней, с комиссией. Черт с ним, с грантом. Жила я скромным журнальным автором и проживу дальше. И вообще, не хочу видеть своих героев трансгендерами. Норкин говорил что-то о каких-то потерянных элементах, повторял «Мозаика. Видите ли, пазл». Я кивала. Раскрыла рот, но тут нас отвлекли.
Кто-то вошел, дверь на старой скрипучей пружине под ложами громко ухнула.
— Простите, вы ко мне? — раздраженно крикнул режиссер, вглядываясь в проход между рядами.
— Нет, Велиамин Родионович, — весело ответили сверху.
— Ах, это вы, Ренат Тимурович — Норкин вдруг расплылся в улыбке. — Добро пожаловать в нашу скромную театральную обитель. Как поживаете?
— Хорошо поживаю, — ответил озорной голос.
Я обернулась, вежливо кивнула. Свет выносного софита слепил глаза, я с трудом разглядела вошедшего. Это был высокий молодой человек, широкоплечий с неуловимо знакомой походкой. Он спустился, всё еще в ореоле от софита. Молодой человек широко улыбался, повернув ко мне голову. Я улыбнулась в ответ, удивленная восторженным вниманием незнакомца. Норкин тряс подошедшему руку, молодой человек поглядывал в мою сторону, я собиралась с духом:

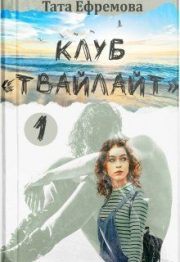
"Клуб «Твайлайт». Часть 1" отзывы
Отзывы читателей о книге "Клуб «Твайлайт». Часть 1". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Клуб «Твайлайт». Часть 1" друзьям в соцсетях.