– Послушай, Клодина… Я хотел бы тебе сказать…
Я дёргаю плечом, и он умолкает. Похоже, ему не очень-то хотелось продолжать; он пожимает левым плечом со смиренным видом фаталиста.
Кого я ненавижу, так это Рези! Медленно к ней приближаюсь. Я словно вижу себя со стороны. И это раздвоение личности делает меня нерешительной. Ударю я её сейчас или только запугаю до бесчувствия?
Она отступает, огибает небольшой чайный столик, пробирается к портрету. Так, пожалуй, она от меня ускользнёт! Нет, так дело не пойдёт!
Однако она уже пытается нащупать портьеру, пятится, не сводя с меня взгляда. Я бессознательно нагибаюсь за камнем – камня нет… Она исчезла.
Я роняю руки, внезапно обессилев.
Мы остались вдвоём и смотрим друг на друга. У Рено почти такое же доброе выражение лица, как обычно. Только немного усталое. Красивые глаза печальны. О Господи! Сейчас подойдёт и скажет: «Клодина»… – и если я дам волю своей злости, если выплесну на него упрёки и слёзы, с ними же выйдет и поддерживающая меня сила: я покину эту квартиру, повиснув у него на руке, жалкая и извиняющая… Ни за что! Я… я Клодина, чёрт возьми! И потом, я его же возненавижу за своё прощение.
Я слишком долго жду. Он подходит и говорит: «Клодина…»
Я резко отстраняюсь и инстинктивно бросаюсь в бегство, подобно Рези. Только в отличие от неё я бегу от самой себя.
Я поступила правильно. Улица, взгляд на предательскую занавеску всколыхнули во мне гордыню и озлобление. Теперь, кстати сказать, я знаю, куда мне идти.
В фиакре домчаться до дому, схватить дорожную сумку, спуститься вниз, швырнув ключ на стол, – это займёт не больше четверти часа. Деньги у меня есть, немного, но мне хватит.
– Кучер! Лионский вокзал!
Перед тем как сесть в поезд, я отправляю телеграмму папе, потом Рено: «Вышлите Монтиньи одежду и бельё для пребывания неопределённый срок».
Эти серо-голубые васильки на стене – словно тени цветков на светлой бумаге… и эта персидская занавеска с непонятным рисунком… да, вот чудовищный плод, а здесь – яблоко с глазами… Раз двадцать я видела их во сне за два года, проведённых в Париже, но никогда не представляла так ярко, как сейчас.
На сей раз я отчётливо слышала сквозь некрепкий сон, как скрипнул насос! Подскочив в своей девичьей постели, я обвожу взглядом комнату, в которой прошло моё детство, и мои глаза наполняются слезами. Это светлые слёзы, похожие на золотой луч, прыгающий в окнах; они дороги мне, как и цветы на серых обоях. Значит, это правда, я здесь, в этой комнате! Не думаю ни о чём другом; но вот вытираю глаза розовым носовым платком… стоп! он не из Монтиньи!
Мне так грустно, что слёзы высыхают сами собой. Мне причинили зло. Спасительное зло? Я близка к тому, чтобы в это поверить, не могу же я наконец страдать в родном Монтиньи, в этом доме… Мой любимый письменный стол в чернильных пятнах! В нём до сих пор хранятся мои школьные тетрадки: «Арифметика», «Чистописание»… С приходом Мадемуазель уже не говорили: «Задачи», «Диктанты»; на смену им пришли более изысканные «арифметика» и «чистописание», это больше в стиле «Среднего образования»…
Крепкие коготки скребутся в дверь, царапают замок. Тревожное и властное «мяу!» требует, чтобы я отворила… Девочка моя любимая, как ты хороша! В голове у меня такая мешанина, что я чуть было не забыла о тебе, Фаншетта! Иди ко мне на руки, в постель, уткнись мокрым носиком и холодными зубами мне в подбородок, взволнованная до такой степени, что стучишь лапками по моей голой руке, выпустив все коготки. Сколько же тебе лет? Пять? Или шесть? Не помню. Ты такая беленькая, что всегда будешь юной. И умрёшь юной – как Рено. Ну вот! Это воспоминание всё мне портит… Побудь со мной ещё, прижмись к моей щеке, и я забудусь, слушая твоё громкое урчание…
О чём ты подумала, когда я приехала так внезапно и без багажа? Даже папа заподозрил неладное.
– Ну что? А где твой муж-паразит?
– Он приедет, как только освободится, папа.
Бледная, с отсутствующим видом, я была мыслями ещё там, на улице Гёте, между двумя существами, причинившими мне зло. Хотя часы пробили десять, я отказалась сесть за стол и хотела одного: как можно скорее лечь в постель, забиться в тёплую уютную норку и подумать, поплакать, разжигая в себе ненависть… Однако тень моей прежней комнаты приютила столько доброжелательных маленьких призраков, что вместе с ними приходит сон, крепкий и благодатный.
За дверью раздаются шаркающие шаги. Мели входит без стука, не собираясь, видимо, отказываться от прежних привычек. Она держит в одной руке небольшой облупившийся поднос – всё тот же! – а другой поддерживает левую грудь. Она постарела, перестала за собой следить и готовя на сомнительное посредничество, однако, глядя на неё, я чувствую, как у меня отлегло от сердца. Эта некрасивая служанка вносит на облезлом подносе в дымящейся чашке «приворотное зелье, которое омолаживает…» Зелье её пахнет шоколадом. Я умираю с голоду.
– Мели!
– Что, душечка моя?
– Ты меня любишь?
Она не спеша ставит поднос и только после этого вяло пожимает плечами:
– Может, и так.
Это правда. Я чувствую, что это правда. Она продолжает стоять и наблюдает за тем, как я ем. И Фаншетта смотрит на меня, усевшись мне на колени.
Обе откровенно мной восхищаются. Но вот Мели качает головой и с осуждающим видом взвешивает левую грудь на руке.
– Что-то ты осунулась. Что они там с тобой делали?
– У меня была инфлюэнца, я писала папе. А где он?
– У себя в кабинете, могу поклясться. Увидишь его, когда время придёт. Хочешь, я схожу за бадейкой?
– Это ещё зачем? – улыбаюсь я, с удовольствием вслушиваясь в местный говор.
– Чтобы помыть твою задницу и остальные места.
– Угу! И какие!…
С порога она оборачивается и спрашивает без обиняков:
– Когда будет господин Рено?
– Я-то почём знаю? Он тебе напишет. Пошевеливайся, живо!
В ожидании бадьи я свешиваюсь в окно. На улице – ни души, только крыши домов взбегают к самому небу. Из-за крутого подъёма каждый следующий дом упирается окнами второго этажа в первый этаж дома предыдущего. Несомненно, пока меня здесь не было, подъём стал ещё круче. Я останавливаю свой взгляд на углу улицы Сестёр, которая ведёт прямо – я хотела сказать «криво» – к школе… А не навестить ли мне Мадемуазель? Нет, я недостаточно хороша собой… И потом, я могу там встретить малышку Элен, эту будущую Рези… Нет, хватит с меня подруг, довольно женщин!… Я встряхиваю рукой, растопырив пальцы и словно пытаясь отделаться от длинного волоса, зацепившегося за ноготь… Проскальзываю босиком в гостиную… Эти старые кресла со всеми своими дырками ещё помнят мою улыбку! Здесь ничто не изменилось. Два штрафных года в Париже не изменили их круглые спинки и хорошенькие ножки в стиле Людовика XVI, хотя обивка обветшала… Какая дура эта Мели. Синяя ваза пятнадцать лет стояла слева от зелёной, а она поставила её справа! Я поскорее расставляю всё по местам и завершаю убранство комнаты, в которой прошла почти вся моя жизнь. Всё на своих местах, только куда-то подевались моя былая радость, моё беззаботное одиночество…
За закрытыми ставнями – залитый солнцем сад… Нет, нет, сад, тобой я полюбуюсь через час! Ты слишком сильно меня волнуешь, стоит мне лишь заслышать шелест твоей листвы, а я очень давно не видела зелени!
Папа думает, что я сплю. Или забыл, что я приехала. Ничего. Я пойду в его пещеру и вытяну из него проклятия, но всему своё время. Фаншетта следует за мной по пятам, опасаясь, как бы я не сбежала. «Де-е-евочка моя!» Ничего не бойся. Знай, что моя телеграмма гласила: «Одежду и бельё – неопределённый срок…» Неопределённый. Что сие означает? Понятия не имею. Но мне кажется, что я здесь надолго. Как приятно убежать от своей болячки!
Моё утро завершается в волшебном саду. Деревья выросли. Временный жилец ничего не тронул, даже к траве на дорожках не прикасался, по-моему…
На огромном орешнике – тысячи спелых орехов. И стоит мне вдохнуть тяжёлый густой аромат одного из его смятых листиков, как глаза у меня закрываются сами собой. Я прислоняюсь к орешнику – а он защищает сад и в то же время опустошает его: в его прохладной тени гибнут розы. Да что за дело? Нет ничего прекраснее дерева – этого, во всяком случае. В глубине, у той стены, за которой сад мамаши Адольф, две сосны-близняшки с серьёзным видом кивают головами; они круглый год не меняют тёмно-зелёный наряд…
Уже отцвели кисти у глицинии, что карабкается на крышу… Тем лучше! Я не могу простить глицинии, что её цветы украшали когда-то волосы Рези…
Застыв у ствола орехового дерева, я снова сливаюсь с природой. Вон там голубеет вдали Перепелиная гора. Завтра будет красиво, если Мутье не закроют облака.
– Ангел мой! Тебе письмо!
…Письмо… Уже… Недолго же я отдыхала! Неужели он не мог дать мне побольше времени, ещё немного солнца и вольной жизни? Я чувствую себя маленькой и робкой перед неумолимо надвигающейся мукой… Стереть, стереть из памяти всё, что было, и начать всё сначала… Увы!
Девочка моя дорогая…
(Мог бы не трудиться. Я знаю всё, что он скажет. Да, я была его дочкой! Почему же он меня обманул?)
Девочка моя дорогая! Я не в силах забыть, какую боль тебе причинил. Ты сделала то, что должна была сделать, а я ничтожество, которое любит тебя и очень тоскует. Однако ты сама знаешь, Клодина, ты уверена в том, что лишь дурацкое любопытство толкнуло меня на это, и я чувствую себя виноватым отнюдь не в том; говорю тебе так, рискуя вызвать ещё большее твоё неудовольствие. Но я причинил тебе боль, и потому мне нет покоя. Посылаю тебе всё, о чём ты просила. Вверяю тебя заботам, твоего любимого родного края. Помни: несмотря ни на что, ты – моя любовь, мой единственный источник. Моя «молодость», как ты говорила когда-то, поднимая на меня смеющиеся глаза, моя печальная молодость уже состарившегося мужчины вдруг ушла вместе с тобой…

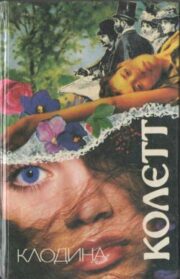
"Клодина замужем" отзывы
Отзывы читателей о книге "Клодина замужем". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Клодина замужем" друзьям в соцсетях.