Он жадно читает это жалкое письмецо, написанное карандашом, и наш маленький парижанин, обожающий всякие «происшествия», возбуждённо восклицает:
– Но это настоящая драма, какое-то заточение! А что, если обратиться в суд?
– Хорошенькая мысль! Вам-то какое до этого дело?
– Какое мне дело? Но, Клодина, ведь это жестокость, перечитайте письмо!
Чтобы прочесть письмо, мне приходится опереться на его хрупкое плечо. Он улыбается, потому что мои волосы щекочут ему ухо. Я отодвигаюсь. И только спрашиваю у него:
– Вы на меня не сердитесь, Марсель?
– Нет, нет, – поспешно говорит он. – Но прошу вас, расскажите мне о Люс. Я буду таким милым, если вы расскажете мне о Люс! Знаете что, я принесу цепочку для Фаншетты.
– Вот ещё! Она её съест. Бедный мой друг, мне нечего вам рассказать. Впрочем, мы можем с вами только обменяться исповедями. Услуга за услугу.
Он дуется, совсем как девчонка, упрямо набычив лоб, капризно надув губы.
– Скажите-ка мне, Марсель, часто вы делаете такое вот обиженное лицо перед… перед своим другом? Напомните мне, как его имя?
– Его зовут Шарли, – немного поколебавшись, отвечает мой «племянник».
– А сколько ему лет? Ну же, говорите, из вас просто силой приходится всё вытягивать!
– Ему восемнадцать лет. Но он очень серьёзный, очень взрослый для своего возраста… Вы и в самом деле Бог знает что вообразили!..
– Ну послушайте, вы меня достали. Не будем начинать всё сначала, ладно? Будьте, если хотите, его подружкой, но хоть разочек будьте моим товарищем, и я вам расскажу о Люс, вот так-то!
С обезоруживающей грацией он ласково сжимает мои запястья.
– О! Как вы милы! Я так давно хотел услышать подлинную исповедь молодой девушки! Здесь, в Париже, молодые девушки или уже стали женщинами, или просто дуры. Клодина, скажите, друг мой, Клодина, я стану вашим поверенным?
Да, это уже совсем непохоже на холодную, безупречную сдержанность первого дня. Он говорит со мной, держа меня за руки, его глаза, рот, всё лицо вступают в игру, чтобы добиться от меня исповеди, как, я не сомневаюсь, он пользуется этим, чтобы добиться ласки или примирения. И мне приходит на ум насочинять ему всяких мерзостей, которых я никогда не совершала. А он тогда расскажет мне о других, которые он, конечно же, совершал… Я поступлю довольно подло, но что поделаешь? Я никак не могу привыкнуть к мысли, что веду игру с мальчиком. Если бы он вздумал вдруг обнять меня за талию или поцеловать, я бы просто выцарапала ему глаза, на этом бы всё и кончилось. Зло рождается оттого, что нет никакой опасности…
Мой «племянник» вовсе не желает, чтобы я долго размышляла. Он тянет меня за руку, усаживает в низенькое кресло, а сам садится на пол на мою набитую мякиной подушечку, поддёрнув брючки, чтобы они не вытянулись на коленках.
– Вот, мы прекрасно устроились. Ох, до чего же мрачный, гнусный двор! Я задёрну занавески, вы не возражаете? А теперь расскажите мне, как всё это началось.
Я вижу в высоком зеркале наше с ним отражение. Должна сказать, мы выглядим не так уж уродливо, бывают и похуже. Что же такое мне выдумать для этого белокурого ангелочка, алчущего подобных историй, который слушает меня, придвинувшись ко мне так близко, что мне видны все лучики, вызвездившие его зрачки, тёмно-синие на бледно-голубом фоне?
Клодина, служаночка моя, вспомни Школу. Тебе почти не придётся врать.
– Ну, я, право, не знаю. Все эти истории никак не начинаются. Это… некое медленное преображение привычной жизни, такое…
– …проникновение…
– Благодарю вас, сударь, вы, видно, знаете в этом толк.
– Клодина, Клодина, не увлекайтесь общими рассуждениями. Общие места такие бесцветные. Сдержите же своё обещание, рассказывайте. Прежде всего опишите Люс. Краткое вступительное слово!
– Люс? Это нетрудно. Шатенка, невысокого роста, бело-розовая, зелёные раскосые глаза, загнутые ресницы – как у вас, – слишком маленький нос, лицо немного калмыцкое… Вот, я же вам говорила, такой тип вам не понравится! Подождите. Руки, ноги, щиколотки хрупкие. Речь с таким же, как у меня, выговором, френуазским выговором, ещё более тягучим. Врунья, лакомка, очень ласковая. Не успокаивалась, пока не получала своей ежедневной взбучки.
– «Взбучки»? Вы хотите сказать, что били её?
– Именно это я и хочу сказать, так что не следует меня прерывать. «Тишина в классе, иначе я дам дополнительное задание на завтра!» Так выражалась обычно наша Мадемуазель, если её драгоценной Эме не удавалось поддерживать порядок, когда ученицы готовили уроки.
– А кто такая Эме?
– Люс нашей Мадемуазель, нашей директрисы.
– Ясно, продолжайте.
– Продолжаю. Однажды утром, когда пришла наша очередь колоть дрова для печки, в сарае…
– Как вы говорите?
– Я говорю: однажды утром, когда пришла наша очередь колоть дрова для…
– Значит, в этом пансионе вы кололи дрова? Кололи дрова для…
– Это не пансион, это школа. И все по очереди колют дрова в полвосьмого утра, зимой, когда наступают холода! Вы и представить себе не можете, как бывает больно от занозы, когда стоят холода! У меня карманы всегда были набиты горячими каштанами, я ела их в классе и согревала ими руки. Те, кто колол полешки, старался прийти пораньше, чтобы пососать ледяные сосульки у колонки около сарая. Я приносила ещё сырые каштаны, нерасколотые, и бросала их в печку, чтобы позлить Мадемуазель.
– Боже правый! Неужели существуют подобные школы! Но что же Люс, Люс?
– Люс ныла больше всех, когда бывала «на дровах», и бежала ко мне в поисках утешения. «Клодина, я совсем захолодала, у меня руки окоченели, глянь-ка, большой палец даже не сгибается! Согрей меня, Клодина, дорогая моя Клодина». И она пряталась ко мне под плащ и целовала меня.
– Как? Как? – взволнованно переспрашивает Марсель, он слушает, полуоткрыв рот, с горящими щеками. – Как она вас лю… целовала?
– Целовала мои щёки, ну, шею, – отвечала я, словно внезапно поглупев.
– Да бросьте, и вы такая же, как другие девицы!
– Ну, положим, Люс так не считала (я кладу ему на плечи ладони, чтобы он сидел спокойно); не сердитесь, всему своё время, будут и кошмарные вещи!
– Минуточку, Клодина: вас не смущал её говор?
– Местный говор? Вам, юный парижанин, приятно было бы слушать этот жалобный, напевный голосок, местный говор в этих нежных устах, доносившийся из-под красного плаща, закрывавшего ей лоб и уши, так что оттуда выглядывала лишь розовая мордашка, бархатистые как персик щёки, которые даже холод не лишал красок! Плевать мне было на говор!
– Сколько огня, Клодина! Вы её ещё не забыли, вам её недостаёт.
– И вот как-то утром Люс передала мне письмо.
– Ах! Наконец! Где же это письмо?
– Я порвала его и вернула Люс.
– Неправда!
– Да как смеете вы так говорить! Сейчас отошлю вас домой на проспект Ваграм, любуйтесь там своими пирожными с кремом!
– Простите меня! Я хотел только сказать, что это выглядит как-то неправдоподобно.
– Дурачок вы мой ненаглядный! Да, я вернула ей письмо потому, что она предлагала мне такое… ну, не совсем пристойное, что ли.
– Клодина, во имя Неба, не заставляйте меня томиться.
– Она писала мне: «Моя дорогая, когда бы ты вправду захотела стать моей близкой подружкой, кажется, мне больше нечего было бы желать. Мы стали бы так же счастливы, как моя сестрица Эме с Мадемуазель, и я была бы тебе благодарна всю свою жизнь. Я так тебя люблю, ты такая красивая, кожа у тебя нежней жёлтой пыльцы лилий, мне нравится даже, когда ты царапаешь меня, потому что ноготки у тебя такие холодные». Ну вот, всякая подобная ерунда.
– О!.. Какое простодушное смирение… Знаете, это просто восхитительно!
Что за вид у моего «племянника»! Вот уж действительно впечатлительная натура! Он больше не смотрит на меня, хлопает ресницами, на скулах выступают красные пятна, хорошенький носик побелел. Только Люс я видела такой же взволнованной, но насколько же он красивее! Внезапно у меня возникает мысль: «Что, если бы он поднял на меня глаза, обвил бы меня своими руками именно в эту минуту, что бы я тогда сделала?» Мне словно гусеница заползла за шиворот. Он вскидывает ресницы, вытягивает вперёд голову и страстно молит:
– А что потом, Клодина, что потом?
Вовсе не я взволновала его, чёрт побери, а мой рассказ, подробности, которых он ждёт! Дорогая моя Клодина, это ещё не тот случай, твоей чести ничто не угрожает.
Открывается дверь, входит Мели, сама скромность: думаю, она возлагает большие надежды на Марселя, видит в нём «кавалера», которого недостаёт. Она вносит в комнату маленькую зажжённую лампу, закрывает решетчатые ставни на окнах, задёргивает шторы и оставляет нас в тёплом полумраке. Но Марсель встаёт.
– Уже зажигают лампы, Клодина! Который же теперь час?
– Полшестого.
– Ох и задаст же мне бабушка! Мне надо уходить, я обещал вернуться в пять часов.
– Я думала, тётушка Кёр выполняет все ваши капризы?
– И да и нет. Она очень милая, но уж слишком меня опекает. Стоит мне опоздать на полчаса, и я застаю её в слезах, что не так уж забавно! И каждый раз, уходя, я слышу: «Будь осторожен! Я места себе не нахожу, когда тебя нет дома! Главное, не ходи по улице Кардине, там такая подозрительная публика. И по площади Звезды не ходи, машины там так и мчатся, особенно когда стемнеет!..» И та-та-та-та, та-та-та-та! Вы не представляете себе, что это такое, когда тебя всю жизнь держат под стеклянным колпаком! Клодина, – тихо шепчет он, приблизив губы к моему уху, – вы ведь расскажете мне конец этой истории, правда? Думаю, я могу вам верить?
– Настолько же, насколько я верю вам, – говорю я без улыбки.
– Злая девчонка! Дайте поцеловать вашу ручку. Не огорчайте больше своего «племянника», который вас очень любит. Прощайте, Клодина, до скорой встречи, Клодина!
Уже в дверях он шутливо посылает мне воздушный поцелуй кончиками пальцев и, неслышно ступая, убегает. Воистину удачный день! Голова у меня ясно работает. Хоп! Фаншетта! Немного гимнастики! Заставим потанцевать ваших будущих деток!

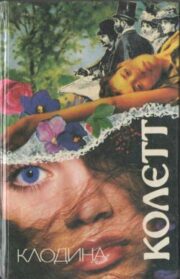
"Клодина в Париже" отзывы
Отзывы читателей о книге "Клодина в Париже". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Клодина в Париже" друзьям в соцсетях.