Господи, до чего мала моя грудь! (В школе мы называли это «сиськи», а Мели говорит «титьки».) Я вспоминаю наши «конкурсы» трёхлетней давности, во время редких прогулок па четвергам.
На лесной лужайке, близ идущей в ложбине дороги, мы усаживались в кружок – мы, четыре старшие девочки – и расстёгивали свои блузки. Анаис (вот уж наглость!) демонстрировала нам кусок лимонной кожи, надувая при этом живот, и самоуверенно заявляла: «Они здорово выросли с прошлого месяца!» Чёрт тебя побери! Да это просто ровненькая Сахара! Бело-розовая Люс в грубой казённой рубашке – на обшлагах которой нет даже фестончиков, таково правило – обнажала «среднехолмистую равнину», едва обозначившуюся, и два розовых маленьких кончика, точно соски Фаншетты. У Мари Белом… грудь совсем как тыльная сторона моей ладошки. А что же Клодина? Выпуклая грудная клетка, а грудь точно такая же, как у толстенького мальчугана. Чёрт побери, это в четырнадцать-то лет… Закончив представление, мы застёгиваем блузки, при этом каждая в душе убеждена, что у неё они гораздо больше, чем у трёх других.
Белое муслиновое платье, хорошо выглаженное Мели, кажется мне ещё достаточно красивым, и я надеваю его с удовольствием. Нет больше моих бедных прекрасных локонов, ласково сбегавших до самой поясницы; но завитки лежат теперь так забавно, короткие кудряшки доходят до уголков глаз, поэтому я не слишком тоскую в этот вечер по своей прежней копне волос. Тысяча чертей (как говорит папа)! Ох, не забыть бы золотую цепочку.
– Мели, папа одевается?
– Да что-то слишком уж возится, никак не кончит. Три пристежных воротничка испортил. Поди-ка повяжи ему галстук.
– Бегу.
Мой благородный папочка затянут в чёрный, вышедший из моды фрак, но выглядит всё равно очень представительно.
– Поторопись же, поскорей, пала, уже полвосьмого. Мели, не забудь покормить Фаншетту. Давай сюда красный суконный плащ, и бежим.
От этой белой гостиной с электрическими грушами лампочек во всех углах у меня начнётся припадок эпилепсии. Папа придерживается моего мнения, ему ненавистны эти кремовые тона, столь дорогие сердцу его сестры Вильгельмины, он говорит об этом без обиняков:
– Можешь мне поверить, не сомневайся, я скорее дал бы себя публично высечь на площади, но не лёг бы спать среди этих пирожных с кремом.
Но вот является прекрасный Марсель и освещает всё своим присутствием. До чего же он очарователен! Тоненький, лёгкий в своём смокинге, волосы белокурые, совсем светлые, а его полупрозрачная кожа в электрическом свете кажется такой же бархатистой, как лепестки садового вьюнка. Когда он с нами здоровается, я замечаю, что его светлые голубые глаза с живым вниманием разглядывают меня.
Вслед за ним выходит совершенно ослепительная тётушка Кёр! В шёлковом жемчужно-сером платье с чёрными кружевными воланами – это по моде 1867-го или 1900-го года? Скорее 1867-го, только на этот кринолин мог бы присесть гвардеец Наполеона III. Седые пышные волосы, расчёсанные на прямой пробор, лежат очень ровно; а этот взгляд немного блёклых голубых глаз под тяжёлыми морщинистыми веками, который она, должно быть, внимательно изучала у графини де Теба, сам по себе производил сильное впечатление. Походка у неё скользящая, рукава с низкими проймами, и она держится с такой… учтивостью. Слово «учтивость» так же ей к лицу, как и прямой пробор в волосах.
Кроме нас, никаких других приглашённых. Но, чёрт побери, у тётушки Кёр специально одеваются к обеду! В Монтиньи я обычно обедала в школьном переднике, а папиному облачению даже трудно было подобрать название – широкий плащ, сюртук, пальто, некое незаконное порождение всего этого, – он обычно надевал его с самого утра, чтобы пасти своих улиток. Если носить декольтированное платье в тесном семейном кругу, что же мне тогда надевать на званые обеды? Разве что сорочку на бретельках из розовых лент?
(Клодина, старушка моя, кончай все эти отступления! Постарайся за столом есть поаккуратнее, держаться прилично и, если тебе поднесут блюдо, которое ты не любишь, не говорить: «Уберите поскорее, меня от него воротит!»)
Я, само собой, сижу рядом с Марселем. Вот проклятие! Столовая тоже вся белая! Белая и жёлтая, но это почти одно и то же. А от хрусталя, цветов, электрического света стоит такой гул на столе, что кажется, ты и впрямь это слышишь. И в самом деле, это сверкание огней действует на меня точно оглушительный шум.
Под нежным взглядом тётушки Кёр Марсель строит из себя светскую барышню, он спрашивает, весело ли мне в Париже. Свирепое «нет» – вот что он слышит в ответ поначалу. Но вскоре я несколько смягчаюсь, потому что ем тарталетку с трюфелями, которая, по-моему, способна утешить даже свежеиспечённую вдову, и снисхожу до объяснений:
– Понимаете, надеюсь, когда-нибудь мне будет здесь весело, но я до сих пор страдаю оттого, что вокруг нет листьев, деревьев, никак не могу к этому привыкнуть. На четвёртом этаже в Париже не так уж много зелёной поросли.
– Зелёной… чего?
– Поросли, так говорят у нас в Френуа, – добавляю я с некоторой гордостью.
– А-а! Это слово употребляют в Монтиньи? Оригинально! «Зелёная поросль», – повторяет он, насмешливо раскатывая букву «р».
– Я запрещаю вам насмехаться надо мной! Вы что, думаете, ваше парижское «р» звучит изящнее, когда его раскатывают где-то в самой глубине глотки, словно горло полощут!
– Фи, как некрасиво! Ваши подружки похожи на вас?
– Нет у меня никаких подружек. Не слишком-то я люблю подружек. Правда, у Люс кожа нежна как мусс, но этого ещё недостаточно.
– «У Люс кожа нежна как мусс…» Забавная манера оценивать людей!
– Чего тут забавного? В категории нравственной Люс не существует. Я рассматриваю её лишь в категории физиологической и добавлю ещё раз, что у неё зелёные глаза и нежная кожа.
– Вы очень любили друг друга?
Красивое порочное личико! Чего не скажешь ради того, чтобы увидеть, как засверкают эти глаза? Слушай же, подлый мальчишка!
– Нет, я её почти совсем не любила. Она – да, любила, она горько плакала, когда я уезжала.
– А кого же вы ей предпочли?
Мой спокойный тон придал Марселю смелости, он, верно, принимает меня за дурочку и охотно задал бы мне более определённые вопросы; но тут взрослые на минутку умолкают, пока слуга с лицом кюре меняет тарелки, и мы тоже замолкаем, чувствуя себя уже немного сообщниками.
Тётушка Кёр переводит свой утомлённый синий взгляд с Марселя на меня.
– Клод, – обращается она к папе, – посмотрите, как эти дети выигрывают на фоне друг друга. Матовый цвет лица вашей дочери, её волосы с медным отливом, её тёмные глаза, все эти внешние признаки брюнетки у девочки, которая вовсе не является брюнеткой, ещё больше подчёркивают белокурость моего херувимчика, вы согласны?
– Да, – с глубокой убеждённостью отвечает папа, – он гораздо больше девица, чем она.
Херувимчик и я опускаем глаза, как пристало детям, которых одновременно распирает от гордости и от желания фыркнуть. Обед продолжается без дальнейших доверительных признаний. Впрочем, восхитительное мандариновое мороженое поглощает всё моё внимание.
Об руку с Марселем я возвращаюсь в гостиную. Никто теперь не знает, чем заняться дальше. Тёте Кёр, по-видимому, надо поговорить с папой о чём-то серьёзном, и нас удаляют из гостиной.
– Марсель, душенька, покажи Клодине нашу квартиру. Будь милым, постарайся, чтобы она чувствовала себя здесь как дома.
– Пойдёмте, – говорит мне «душенька», – я покажу вам свою комнату.
Я так и думала, она тоже белая! Белая и зелёная, тоненькие стебли тростника на белом фоне. В конце концов такая белизна вызывает у меня постыдное желание опрокинуть на всё это чернильницу, целую кучу чернильниц, испачкать углём стены, измазать все эти росписи клеем, кровью от порезанного пальца… Господи, какой испорченной девчонкой я становлюсь в белых покоях!
Я подхожу прямо к камину, где замечаю фотографию в рамочке. Марсель спешит щёлкнуть выключателем, чтобы над нами загорелась электрическая лампочка.
– Это мой лучший друг… Шарли, он мне как брат. Не правда ли, хорош?
Даже слишком хорош: тёмные глаза с загнутыми ресницами, над нежным ртом тоненькая ниточка чёрных усиков, косой пробор, такой же, как у Марселя.
– Я верю вам, что он и правда красив! Почти так же красив, как вы, – искренне отзываюсь я.
– О, гораздо красивее! – пылко восклицает Марсель. – Фотография не в силах передать белизну его кожи, его чёрные волосы. А какая прелестная душа…
И пошёл, и пошёл! Эта хорошенькая статуэтка саксонского фарфора наконец-то оживает. Я не дрогнув выслушиваю панегирик блистательному Шарли, и когда Марсель, несколько сконфуженный, наконец спохватывается, я с убеждённым видом, как нечто само собой разумеющееся, говорю ему:
– Я понимаю. Вы его Люс.
Он отшатывается от меня, и в ярком электрическом свете я вижу, как делаются жёстче его прекрасные черты и еле уловимо блёкнут краски слишком чувствительной кожи лица.
– Его Люс? Что вы хотите этим сказать, Клодина? С большой самоуверенностью, подогретой двумя бокалами шампанского, я пожимаю плечами.
– Ну да, его Люс, его душенька, его милочка, что же ещё! Достаточно на вас взглянуть, разве вы похожи на мужчину? Поэтому-то я и нашла вас таким красивым!
И поскольку он смотрит теперь на меня, не двигаясь, холодным взглядом, я добавляю, улыбаясь ему прямо в лицо:
– Марсель, я и сейчас нахожу вас всё таким же красивым, поверьте мне. Разве похоже, что я желала бы доставить вам неприятности? Хоть я вас и поддразниваю, но я совсем не злая и на многие вещи умею смотреть спокойно и молча – и слушать так же. Я никогда не буду миленькой кузиной, за которой несчастный кузен считает себя обязанным ухаживать, как это изображается в романах. Подумайте-ка, – смеясь добавляю я, – ведь вы внук моей тёти, мой племянник, как принято считать в Бретани; Марсель, ведь это был бы настоящий инцест.

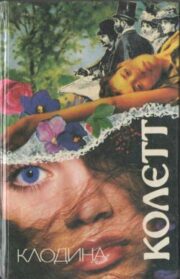
"Клодина в Париже" отзывы
Отзывы читателей о книге "Клодина в Париже". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Клодина в Париже" друзьям в соцсетях.