Он услышал, как поворачивается ключ в замке, и сам открыл дверь.
— Любимая, — сказал он и обнял меня.
После стольких лет холодности его нежность показалась мне фальшивой, неискренней. И тело его было чужим, холодным, как у рептилий. Я же не имела теперь никакого отношения к нему, я принадлежала к другому миру. Он обнимал меня, а я не чувствовала прикосновения, словно между нами была невидимая, прозрачная стена.
Он подстригся, привел в порядок усы и к тому же отрастил бородку а-ля Фрейд. Жидкая такая вышла бороденка, но влияние мэтра было налицо. Уши смешно оттопыривались — или они оттопыривались всегда, я раньше просто не замечала? Сейчас это было уже невозможно определить.
— Дай хоть на тебя взглянуть! — сказал он. — Ты потрясающе хороша!
Как он мог не заметить, что рядом со мной стоит Джош, что образ его витает вокруг? Неужели он ослеп?
— Зачем ты подстригся? — слегка отстраняясь, спросила я. — И зачем тебе эта идиотская бородка?
— О, я обсудил все с доктором Стейнгессером. Без нее я выглядел мальчишкой.
— Мне больше нравилась твоя длинная прическа.
Он только пожал плечами: мнение аналитика гораздо важнее.
— И потом, что плохого — выглядеть молодым?
— Это может не нравиться пациентам.
— Какая чушь! Ведь они идут к тебе не затем, чтобы любоваться прической. Или фрейдовской бородой.
— Это тебе так кажется, — пренебрежительно сказал он. — Я не хочу больше выглядеть мальчишкой. Доктор Стейнгессер верно подметил мое подсознательное стремление казаться моложе своих лет. А мне уже сорок, в конце концов.
— Не могу понять, чем может помочь конформизм, когда имеешь дело с подсознательным? Ерунда это все. Ну каким образом чопорность и занудство влияют на толкование чьих-то снов?
Это явно начало его раздражать, но он старался сдержаться изо всех сил. Ради меня он остался дома, отменил прием — несколько лет или даже месяцев назад он мог бы меня этим покорить. Но не сейчас. Сейчас мне было все равно. Единственное, что я ощущала в эту минуту — болезненное чувство стыда за собственное притворство. Но как было внушить это Беннету? Как можно было что-то ему объяснить? Ведь я не могла объяснить это даже себе!
Он обнял меня, прижимаясь ко мне бедрами. Я видела, что он возбужден, но не испытывала ничего, кроме отвращения, постепенно сменяющегося какой-то болезненной грустью. Раньше, надолго расставаясь с Беннетом, я переживала, что он станет трахаться напропалую или найдет себе кого-то взамен, или просто решит, что я ему больше не нужна. Сейчас, пожалуй впервые в жизни, я знала, что он был верен мне, что скучал без меня, — но было уже поздно.
— Пойдем, — сказал он, беря меня за руку и подталкивая к спальне.
— А сколько времени? Ты не опоздаешь на службу?
— У меня еще есть полчаса, — ответил он, как будто не замечая, что я не хочу близости с ним.
Обычно я никогда не возражала заняться любовью. Гораздо чаще возражал он. Почему-то он был всегда недоволен моей повышенной сексуальностью, способностью заниматься любовью когда угодно и где угодно.
— Почты много накопилось за время моего отсутствия, — настаивала я, когда мы проходили через мой кабинет. — От одного взгляда на эту кипу мне становится не по себе…
— Почта подождет, — отвечал Беннет, хотя раньше придерживался иного мнения на этот счет. Мы словно поменялись местами, и он превратился в меня.
В порыве страсти он одним движением раздел меня и начал тереть мне соски, массируя клитор, засовывая в меня свою штуковину и бормоча что-то о том, какая я красивая, да какое упругое у меня влагалище, да как хорошо ему со мной. Мое тело сразу, помимо воли, подсознательно, по привычке, отозвалось: влагалище стало влажным, заколотилось сердце, затвердели соски и наступил оргазм с мыслью о Джоше, с которым мне так этого и не удалось. Драгоценная моя Дорис Лессинг, в отношении оргазма ваша Анна не права: он не есть доказательство любви, так же, как и поступок другой Анны, закончившей жизнь под колесами поезда. Все это женские фантазии, искусственные построения, домыслы, плоды психологической обработки, обожествления мужчин.
О чем же мечтает женщина? К чему она стремится? Только к тому, что подсказывает ей воспитание. Для Анны Вулф важнее всего оргазм, Анна Каренина выбирает смерть. Сам по себе оргазм еще ни о чем не говорит. Оргазм — это оргазм. Когда-нибудь каждая женщина сможет его достичь, это будет такая же привычная вещь, как сейчас — телевизор в каждой семье, и тогда не будет подобных проблем.
— О чем ты задумалась? — прервал мои размышления Беннет.
— О Дорис Лессинг и Толстом, — ответила я.
Он хмыкнул. Перед ним была настоящая Изадора, та, которую он знал, к которой привык, — та, которой можно управлять. Эту больше волнует литература, чем жизнь. Ему хорошо и уютно с ней. Но я не могла больше терпеть ее в себе.
В тот день я написала Джошу письмо.
«Сегодня впервые я поняла, что можно попытаться соединить творчество и жизнь. Я хочу сказать, что я раньше считала, будто обязана быть несчастной, и мое творчество только тогда будет полнокровным. Впрочем, я сама не вполне отдавала себе в этом отчет. Так я и жила. Но теперь я спрашиваю себя: зачем? Чтобы никто не мог сглазить? Мне кажется, что когда-то давно я вступила в тайный сговор со своей душой; по нему я полностью отказывалась от любви взамен на право писать. Мужчины могут себе позволить и то и другое — женщинам приходится выбирать. Я выбрала литературу: это более безопасно, чем любовь, — меньше разочарований. И я согласилась связать свою жизнь с человеком, с которым меня не связывало ровным счетом ничего. Я оправдывала эту связь лишь одним: он мне не мешает писать.
Не мешает мне. Только сейчас я поняла, как дико это звучит. А я, выходит, не мешаю ему заниматься психоанализом? Мне даже в голову не приходит что-то ему разрешать или запрещать. Это не мое дело. И все равно я была благодарна Беннету за то, что он позволяет мне писать. Одно это примиряло меня со всем: с отсутствием в наших отношениях теплоты, взаимопонимания, веселья и любви.
Я, к сожалению, слишком поздно поняла, что мои книги нужны людям, что они помогают им. Только тогда я перестала воспринимать свое творчество, как какую-то глупую прихоть, которую мой холодный, но великодушный муж позволяет мне; только тогда я стала рассматривать его, как свое неотъемлемое право.
Признание читателей мне очень в этом помогло. Теперь я обрела свое место в жизни, в обществе наконец. Я вновь почувствовала, что нужна людям, и испытала творческий подъем, который впервые испытала, преподавая начинающим английский язык. Я обрела уверенность в себе, перестав чувствовать себя слепым котенком.
Мы живем в обществе, где царит ханжество и лицемерие, поэтому должны быть благодарны любому, кто искренен в проявлении своих чувств. Вот почему, мне кажется, некоторых писателей превозносят в обществе, как богов. В обыденной жизни мы считаем правду ниже своего достоинства, но нам нравится, когда кто-нибудь пытается высказать ее на страницах книг.
Полгода я переживала из-за своей нелепой славы, я чувствовала себя подавленной, виноватой, наказавшей саму себя. Но теперь, когда я жду новой встречи с Калифорнией и с тобой, поражаясь долгожительству Курта и переживая смерть Джинни, я начинаю понимать, что слава была дарована мне свыше — это был мой путь к свободе.
В детстве, отрочестве и юности меня снедали честолюбивые мечты, я страстно завидовала тем, кто прославился, кого печатали, кто был на виду, кем восхищалась пресса. Но, обретя известность, я впала в отчаяние, меня охватил ужас, страх, и в то же время я была потрясена, что мои молитвы услышаны — наконец! Лишь теперь я начинаю сознавать, что для такого честолюбивого человека, как я, единственным способом преодолеть жажду славы было пройти через нее. Только изведав славу, я бы могла успокоиться и посвятить себя чему-то настоящему в жизни: настоящему творчеству, не ждущему одобрения критики, или настоящей любви. Только тогда я сумела бы поставить успех на службу собственным целям, вместо того, чтобы он манипулировал мной…
И вот впервые моя мысль работает в верном направлении: почему нельзя любить кого-то и одновременно писать; что этому мешает? Но эта мысль по-прежнему пугает меня. Открыто радоваться нельзя. В любую минуту может сглазить недобрый глаз…»
В последующие дни меня не покидали дурные предчувствия. Писем от Джоша не было. Розанна Ховард уговаривала меня забыть его. Надо быть сумасшедшей, говорила она, чтобы связаться с мужчиной именно сейчас, когда я могу наконец «избавиться от мужского диктата», бросить Беннета и жить с ней. Разве можно было ей объяснить, что Джош не имел никакого отношения ни к «мужскому диктату», ни к идеям феминизма, ни к каким-либо еще политическим дискуссиям? Джош был моим лучшим и единственным другом на земле! Но тогда почему он не пишет? Может, я и на этот раз ошиблась и опять связалась с любителем легких побед? Нет, скорее всего письма затерялись в пути. Я верила в это день, два, три, но потом начала беспокоиться всерьез.
Бритт тем временем продолжала меня огорчать. Воцарившись со своей свитой в «Шерри-Нидерланд», она обделывала какие-то дела и время от времени вызывала меня к себе, чтобы отчитаться о проделанной работе, успевая каждый раз припасти для меня какую-нибудь очередную «приятную» весть.
Вдруг выяснилось, что Спиноза и Данте никакого отношения к фильму не имеют, а она «ведет переговоры с более солидной компанией», что она «разговаривала с директорами», но о результатах переговоров расскажет мне потом. Теперь она нагло разглагольствовала, что сама якобы собирается играть в картине главную роль. И хотя она представления не имела об актерской профессии и к тому же говорила в нос, она ни минуты не сомневалась, что сыграть Кандиду сможет по-настоящему только она. Ей, кажется, даже удалось каким-то образом убедить в этом кого-то из директоров.

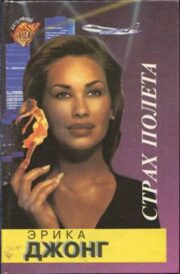
"Как спасти свою жизнь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Как спасти свою жизнь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Как спасти свою жизнь" друзьям в соцсетях.