— Миссис Винг? — по всей форме обратился ко мне молодой человек, явно желая не допустить политической ошибки.
— Зовите меня просто Изадора, — сказала я, к собственному удивлению не рассмеявшись этой идиотской фразе — меня отвлекло это мохнатое, доброе, чуточку странное, но очень приятное лицо, неожиданно появившееся в поле моего близорукого зрения.
— Джош Эйс, — представился молодой человек, пожимая мне руку и приглашая сесть в стоящую прямо посреди мостовой ярко-зеленую «Эм-Джи» с откинутым верхом (это все, что я могла разглядеть без очков). Джош был сыном Роберта и Рут Эйс, которые и устраивали сегодня прием в мою честь.
В тридцатые годы они уже были известными сценаристами, а в пятидесятые попали в черные списки и вынуждены были пережидать маккартизм в Риме, где с десяток лет довольно бойко пекли итальянские вестерны, но теперь вернулись в Калифорнию к вящей радости модных радикалов от киноиндустрии — «радикальных овечек», как я окрестила их про себя. Я встречалась с Эйсами в Нью-Йорке у общих друзей (они жили там последние пять лет), но никогда понятия не имела, что у них, оказывается, есть сын.
Джош был высоким и стройным юношей с рыжей бородой и хорошими манерами. «Цветок душистых прерий», — почему-то подумала я. Он захлопнул за мной дверцу, а сам сел за руль.
— Пристегнитесь, — сказал он.
Поначалу я приняла это за заботу о себе, но потом до меня дошло, что это новая модель, которая не заводится, пока не пристегнется пассажир. Мы отправились к его родителям, в дом, где мне, как это принято по отношению к каждому заезжему литератору из Нью-Йорка, собирались оказать гостеприимство — сродни тому, какое должны оказать заглянувшему с инспекцией начальнику пожарной охраны.
— Так мило со стороны ваших родителей, что они затеяли этот прием, — сказала я.
— Они без ума от вас, — ответил Джош, — и делают это от всей души. Отец сам хотел за вами заехать, но я настоял, чтобы это сделал я.
— А почему?
— Любопытство. Я читал ваши стихи и считаю их просто виртуозными. Но по отзывам в прессе я представлял вас себе великаншей под два с половиной метра, в железных доспехах и с копьем. Я так рад, что ошибся.
— Это в стихах я выгляжу большой.
— Да, но в то же время вы казались мне робкой.
— А с чего вы взяли, что я не робкая? — спросила я, не зная радоваться его словам или возмущаться.
— Просто мое первое впечатление никогда не подводит меня. Да и отец мой на этот раз, пожалуй впервые в жизни, не ошибся. А вообще-то он совершенно не разбирается в людях.
— Люди часто путают, где писатель, а где его идеи, — сказала я. — И особенно это касается писательниц.
— Гм-м… — сказал Джош. — Трудно, должно быть, женщине быть писателем.
— Приятно слышать такие слова. Обычно это вызывает протест.
— Да разве можно протестовать против вас. Мне кажется, перед вами невозможно устоять!
«Ничего себе, — подумала я, глядя на его добродушное лицо, орлиный нос, веснушки, на пушистую бороду и забавную улыбку, — вот так штука — ребенка совратить.»
— Вы действительно считаете меня ребенком? — спросил он, и я вздрогнула оттого, что он словно бы прочитал мои мысли.
— Вовсе нет, — соврала я. — Почему вы так решили? Кстати, сколько вам лет?
— Двадцать шесть, но я стар душой.
«Бог мой! — промелькнуло в голове. — Всего двадцать шесть!»
— Мне было двадцать шесть тыщу лет назад, — сказала я вслух.
Он посмотрел на меня, как на сумасшедшую.
Когда мы подъехали к заправке, я набралась храбрости и спросила, кем он работает. Мне самой вопрос показался идиотским: разве такой красавчик должен еще и кем-то работать!
— Семейный бизнес, — ответил Джош. — Я недавно закончил сценарий для Де Лаурентис — полнейшая чушь, да я и делал к тому же двадцать девятый вариант. Если фильм так и не выйдет, я буду считать, что мне крупно повезло. Только не думайте, что я страшно талантливый или что-то в этом роде. У меня пока нет никаких заслуг, а халтура эта досталась мне просто по блату.
Когда он произнес эти слова, я еле удержалась, чтобы не броситься ему на шею: так приятна мне была эта его откровенность, особенно после близкого знакомства с Бритт, которая мало знала, но много понимала о себе. Джош ни на что не претендовал, но во многом разбирался. Я это сразу поняла по его скромности.
— Вообще-то, — сказал Джош, расплачиваясь за бензин, — с тех пор мне так ничего и не подвернулось, поэтому сейчас я зарегистрирован как безработный.
— Многие с излишней фатальностью относятся к необходимости иметь работу.
— В основном представители вашего поколения. Все четыре года в колледже я больше специализировался на ЛСД, поэтому мне трудно представить себе, чем бы, кроме работы, я мог заняться, если конечно, кто-нибудь меня возьмет.
— Дурак будет тот, кто откажется вас взять.
Ох уж мне этот бравый Новый Свет — какие милые юноши водятся в нем! А я-то, старая сводня, новоявленная Батская ткачиха, — как это я раньше не додумалась обратить свои взоры на двадцатилетних?!
Прием. Я так ждала его, но теперь он казался мне сборищем каких-то возбужденных людей, пытающихся разлучить меня с Джошем. Впрочем, я сознательно избегала его, хотя он был единственным, с кем мне хотелось поговорить, — так я заранее готовилась к краху надежд, которые уже начала связывать с ним.
— Домик, вполне подходящий для коммунистов, — сказала я Роберту Эйсу, оглядывая метров под сто с лишним зал, покрытый пушистым ковром сантиметров с десять толщиной, бассейн, вполне пригодный для Олимпийских игр, и черных слуг, беззвучно снующих среди гостей, держа в руках подносы с закуской. Но Роберт, ожесточенно размахивая сигарой, мне объяснил, что он больше не коммунист, он исповедует теперь Дзэн-буддизм, а большие помещения медитации ничуть не вредят. Роберт был худощав, носил пышные усы и очки, которые постоянно сползали на нос.
— Он дзэн-иудаист, — сказал Джош, незаметно подкравшись ко мне и улыбнувшись своей смешной улыбкой, обнажающей острые зубки грызуна. В этой улыбке было все: и любовь к отцу, и безошибочная реакция на ложь, и ненависть к надувательству.
Но тут ко мне привязался некто Грег Грэнит (очевидно, в прошлом, попросту Гринберг), рекламный агент. Он мечтал проводить меня домой — сегодня, и завтра, и послезавтра, — но когда ему это не удалось, он предложил мне писать сценарии для телепостановок, которые сам брался распространять на телестудиях. О Голливуд! Здесь наслаждение — это работа, а работа — это наслаждение, здесь коммунисты живут на виллах с олимпийскими бассейнами, а агенты называют себя по имени магматической породы и преследуют писателей, даже если те убегают от них по искусственным холмам! Ради этого стоило жить! Стоило терпеть выходки Бритт, поведение Беннета, жажду славы — ради того, чтобы попасть сюда, в эту волшебную страну Оз, где прекрасный принц глядит на тебя своими ясными зелеными глазами, словно говоря: «Дай мне унести тебя от этой толпы в единственно чудесный, щекотный и теплый мир моей бороды!»
До двух ночи меня буквально разрывали на куски. Кинозвезды, увлеченные медитацией, ласковые агенты и осторожные писатели по очереди терзали меня. И еще есть в Голливуде эдакий тип поседевшего, сутулого, побитого жизнью сценариста с доходом около полумиллиона долларов в год и полной безнадежностью за душой. Именно такой человек по имени Герман Кесслер битый час доказывал мне, что он никогда не смог бы написать роман. То есть, может быть, когда-то и мог, но теперь слишком поздно, поезд ушел. И потом, кто ж согласится жить три года, пока пишешь роман, на двадцать тысяч аванса, когда ту же сумму можно получить за сценарий, на который уходит от силы месяца два?!
— Да, это серьезная проблема, — согласилась я.
Он был богат, но счастье обошло его стороной. Он видел, как полуграмотные продюсеры переписывают его лучшую вещь, самонадеянные актеры коверкают его лучшие афоризмы, режиссеры гробят его философские откровения, ассистенты режиссера разрозненными кусками монтируют их, а итальянские подошвы директоров картин окончательно стирают их в порошок. Короче, он был конченый человек, интеллектуальный изгой, бездомный бродяжка от литературы. Они купили его талант, деньгами расплатившись с ним. Честно говоря, паршивая сделка, на мой взгляд. Он плешь мне проел, рассказывая, как мечтал бы поменяться местами со мной.
В два часа ночи меня спас Джош, пригласив покататься на Мулхолланд-драйв. Хотя я понятия не имела, что бы это могло быть, я тут же согласилась, и мы удалились под скрытые усмешки и вежливые улыбки тех, кто не удостоился чести отвезти меня домой.
«Что же это я делаю?» — подумала я, залезая в машину. В душе роились предчувствия, но я старательно отмахивалась от них. Я вспомнила про тетрадь, которую недавно начала. Интересно, как бы на моем месте повел себя Курт? Как бы он готовился к своему восьмидесятисемилетию? Наверное, как и Джинни, если бы она не умерла: дурачась, не стыдясь признать себя дураком.
И все же я как-то стеснялась Джоша. Мне не хотелось походить на героиню, столь роковым образом прославившую меня.
Мы катались с ним всю ночь. Сначала мы поехали на Мулхолланд-драйв и наблюдали оттуда огни, ярким контуром наметившие карту Лос-Анджелеса; в тумане их свет был неверным, словно мигающие маячки маленьких НЛО. Потом мы отправились на Стрип, где он показал мне Институт оральной любви (с массажным кабинетом), Центр удовлетворения фантазий и многое другое, в том числе и небывалых размеров рекламу, прославляющую фантастических, Бробдингнегских рок-звезд. Воздух сохранял свежесть и аромат, и я испытывала какое-то щемящее чувство: легкое волнение? сладостное предчувствие? просто спокойствие от сознания того, что я все равно ничего уже не смогу изменить? Я хотела, чтобы вечно длился этот миг и мы бы ехали так по спящему городу без конца, и всегда были вдвоем, рядом, — всегда.

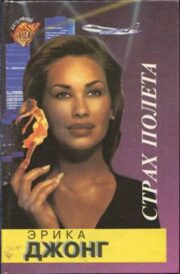
"Как спасти свою жизнь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Как спасти свою жизнь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Как спасти свою жизнь" друзьям в соцсетях.