Теперь наш разрыв был вопросом времени, мне нужно было лишь морально подготовиться к нему. Нужно было оправиться от шока, который я испытала, поняв, что восемь лет прожила с совершенно чужим мне человеком. Трудно сразу решиться на такой шаг. Я уговаривала себя простить Беннета, пыталась всячески его оправдать. Он попрал то, что я ценила в людях больше всего: искренность, чистосердечие, откровенность, — но я все же пыталась. Мы решили провести отпуск в Италии и в очередной раз попытаться наладить отношения, и конечно, как всегда, избрали неверный путь, обосновавшись на Капри, в гостинице, где проводят медовый месяц юные пары, — с видом на море и искристым шампанским в маленьком холодильнике, приткнувшимся возле королевской кровати немыслимых размеров. Я проводила бесконечные ночи без сна, и в виске моем безостановочно билась мысль: «Я хочу уйти, я хочу уйти, я хочу уйти.» Но рассудок отвечал: «Трусиха, трусиха, трусиха». В душе моей бушевала гражданская война. Улыбкой я прощала Беннету все — а сердце сжималось от боли; я хотела полюбить его, но испытывала лишь горечь оттого, что все чувства мертвы. Разве могут уживаться рядом горечь и любовь? Если только одно выдавать за другое. Да и как можно любить этого садиста, этого подлеца? «Должно любить его уже за то, что он твой муж», — повторяла у меня в голове какая-то доисторическая тетушка, но я знала, что она неправа. Неужели, раз ошибившись, я должна всю жизнь упорствовать в своем заблуждении? Конечно, восьмилетние узы разорвать нелегко. Для этого нужны более веские основания, нежели просто предательство, — нужна гибель всех чувств.
Нью-Йорк, начало октября. Я еду в такси к своему аналитику — в который раз! — и вдруг слышу, по радио объявляют, что Джинни Мортон, «поэтесса домохозяек», как называет ее диктор, мертва. Она умерла в запертом гараже, в своей машине с включенным мотором; в руке у нее был зажат едва пригубленный стакан водки, а в крови обнаружен литий, или валиум, или еще какое-то химическое вещество, специально придуманное для того, чтобы противостоять страху, подавленности, болезни. Диктор бормочет что-то о «безвременной утрате» (ей было всего сорок пять), а потом принимается читать откровения некоего злобного и завистливого гуру от литературы, имеющего наглость утверждать, будто «ее ограниченное самоуглубленное творчество» «мечется» между «психушкой» и «гинекологическим креслом». Сам гуру всю жизнь «мечется» между «Анонимными алкоголиками» и институтскими семинарами, которые дают ему неограниченную возможность трахать ничего не подозревающих девятнадцатилетних красоток, но какое ему до этого дело! Сейчас он судит ее, а не наоборот. Да и вряд ли бы Джинни взялась кого-нибудь хоть за что-то судить — разве что только себя. Она была бесконечно добра ко всем — кроме себя самой.
Она не умела быть счастливой. Скорее можно сказать, что ее уделом было страдание, хотя лично я воспринимаю страдание как отсутствие радости, а не как сознательно нагнетаемое состояние души. Но это спорный вопрос. Некоторые поэты лелеют свое страдание, упиваются им, но Джинни была не из таких. Ее страдание было искренним, она выстрадала его. Поэтому и смерть была ей близка; смерть была ее возлюбленным, ее матерью и наперсницей.
Мы встречались с ней всего несколько раз, но наша дружба была из тех, что вспыхивает мгновенно, как любовь с первого взгляда. В письмах она называла меня «моя дорогая Изадора» и подписывала их: «с любовью…» Никаких тебе «душечек» или «нежностей». Она была помешана на Уитмене. К тому же страдала маниакально-депрессивным психозом. Я всегда чувствовала, что когда-нибудь она обязательно покончит с собой. Об этом говорили и ее стихи, и только чудо могло удержать ее от рокового шага. Но все равно я была потрясена случившимся, я чувствовала себя виноватой: три месяца я не могла ответить на ее письмо, а вот теперь ее больше нет в живых.
В это последнее лето своей жизни она прислала мне стихи — очень странные стихи, — и я должна была написать ей, что я думаю о них. Не то, чтобы раньше ее стихи не были странными, но это были самые необычные из всех. В этом забытом Богом мире Джинни осмеливалась верить в Бога; среди цинизма и мелочности она отваживалась отстаивать духовность. И в то время, когда писатели и критики превозносили серость, ненавидели щедрость души и доброту, не верили в то, что бывает искренняя радость, Джинни решительно утверждала Бога, счастье, жизнь, гневно восставала против страдания — в том числе и своего собственного. Легко было заставить ее замолчать. Она была просто женщина, и образы ее поэзии (даже образ Бога) были домашними, кухонными, как простые алюминиевые ложки, как кастрюльки, в которых варят обед. Ее было легко задеть. И там, где мужчину восприняли бы всерьез, — даже если бы он узрел Бога в охотничьем ноже или ране фронтового друга, — над ней насмехались, потому что людям трудно понять, что женское лоно с его красной кровью может стать вместилищем Бога или муз в той же степени, что и половой член с его белой спермой. Это война Алой и Белой розы нашего времени. В наш век перестали чтить Пресвятую Деву Марию, разучились любить Бога, читать стихи, хранить верность, сеять любовь. Жадные и завистливые, мы не видим вокруг ничего, кроме жадности и зависти. А Джинни и понятия не имела, что такое зависть и жадность.
— Включите погромче, — попросила я шофера. Имя на табличке гласило: Симор Асовски.
— Чего?
— Погромче, — повторила я.
Желтому такси, посланцу «Лаки кэб корпорейшн», не было еще и года, но выглядело оно, словно ветеран кампании «Буря в пустыне». Оно дребезжало и скрежетало так, что я едва различала голос диктора. Неожиданный взрыв рока: некролог Джинни прочитан до конца.
— Умерла моя подруга, — сообщила я Симору.
До кабинета аналитика ехать еще минут пять, но мне не терпелось начать сеанс прямо сейчас.
— Чего?
— Моя подруга умерла, — прокричала я, не в силах сдержать свою боль, желая поделиться ею хоть с кем-нибудь. — Эта поэтесса, о которой сейчас говорили по радио, — она умерла.
— Ой! Неудобно-то как! А я-то и не слыхал никогда о ней. А вы тоже поэтесса?
— Да, — ответила я, чувствуя себя неловко оттого, что говорю об этом таксисту. Как будто хвастаюсь… Хотя, с другой стороны, мы оба работники ручного труда.
— Вообще-то я стихов не читаю. Помню один стишок, мы его в школе проходили: «В Занаду Кубла Хан»[3]. Киплинга, кажется. Мне нравился этот стих. Я бы еще чего-нибудь такого почитал… А ваша книга как называется?
— У меня две книги стихов, но известнее всего мой роман, — неожиданно я начинаю запинаться от смущения.
— Вот это да!
— Он называется «Откровения Кандиды».
Симор неожиданно поворачивается ко мне, и нам едва удается избежать столкновения с тележкой, груженой бакалейными товарами от Гристида, которую толкает маленький пуэрториканец. Он пытается разглядеть меня через поцарапанную плексигласовую перегородку.
— Так вы и есть та самая Веселая Шлюха?
Я улыбаюсь, чувствуя себя оскорбленной до глубины души.
— Ничего себе! А я вас по телевизору видал.
Я вновь улыбаюсь — специальной, отрепетированной улыбкой, — но мысли мои далеко, за миллиарды световых лет. Я на Кейп-Коде, там, где погибла Джинни.
Смерть Джинни повлияла на меня странным образом. Меня терзала горечь утраты, я безумно скучала по ней, и в то же время я испытывала легкость — как будто свалился с плеч весь груз моих летних страстей. Иногда после смерти люди влияют на нас сильнее, чем при жизни, тем более что влияние Джинни на меня до того всегда было очень слабым, словно долетавшим издалека. Общение поэтов идет через исписанные страницы, через стихи; слово поэта доходит до нас по почте — или из могилы. Мы видим друг друга в снах, мы грезим наяву.
Мы редко встречались с ней, но каждая наша встреча была откровением для меня. И еще я встречала ее на страницах журналов и антологий. Причем впервые в Европе; в самые трудные дни замужества я спасалась от Беннета среди поэтических строк.
У Джинни были очень смелые стихи. Но смелость эта была особого свойства. Она не стеснялась быть дурочкой, простушкой, — быть самой собой. Она писала о том, что в глазах наших институтских преподавателей никак не могло составлять предмет поэзии, — о крови и испражнениях, о человеческом безумии и переселении душ. Кстати, как получилось, что у писателей моего поколения сложились такие незыблемые представления о том, что есть поэзия? Может быть, на нас повлияли преподававшие нам поклонники Элиота? Но ведь сами-то мы могли почитать Уитмена, Блейка и других, ожививших в поэзии дух Диониса, и понять, что поэзия — не изысканная безделушка, а осененное вдохновением безумство, ключ не только к бессознательному, но и к разгадке вселенной. Однако такие уроки каждое поколение проходит заново; одно — поднимает их на щит, другое — хоронит, а третье, обнаружив их под спудом лет, выдает за собственное открытие, — и так продолжается до бесконечности. Хотя в нынешней ситуации есть что-то еще, помимо естественного, сопутствующего каждому поколению духа времени. Это мощное движение женской половины рода человеческого, когда неожиданно из глубины веков начинают подниматься женские образы и лики, а дух Диониса торжествует теперь через женское лоно, гениталии, грудь.
Наступает время женщин вести за собой мужчин — хотя бы в духовной сфере. Это предсказал Лоуренс, предвидели Уитмен и Малларме. Мужчины, которые были мудры, уверены в себе и готовы к восприятию нового знания, ожидали и не страшились этого. Они не испытывали стыда оттого, что их духовная жизнь будет направляться женщинами, как не стали бы стыдиться они, если бы ими руководили мужчины. Они готовы были черпать мудрость отовсюду, они жаждали духовного обогащения. Но многие мужчины были в ужасе и яростно протестовали. И были женщины, посвятившие свою жизнь этим испуганным мужчинам задолго до того, как почувствовали силу свою. И были у них дома, дети и жизнь, исполненная довольства. Им-то и было хуже всего. Их вольный дух жаждал свободы, их тела были привязаны к мужчинам, детям, домам. Извечный конфликт между свободой и чувством долга. И Джинни была одной из тех, кто испытал это на себе.

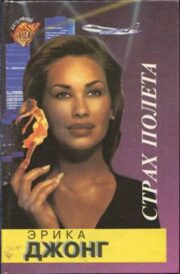
"Как спасти свою жизнь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Как спасти свою жизнь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Как спасти свою жизнь" друзьям в соцсетях.