«А тебе-то что?» — должна была ответить я, но почему-то почувствовала, что обязана сказать. Иногда я рассказываю о своей жизни просто из робости, а иногда — чтобы вызвать доверие собеседника, расположить его к себе.
— Ну, вообще-то с психиатром, который был моим любовником. Видите ли, мой муж недавно признался мне, что еще давно, в первые годы нашей совместной жизни, — и с его стороны это, конечно, было так жестоко, — он был безумно влюблен в одну женщину, эту Пенни, жену офицера, и…
Зазвонил телефон. История моей жизни гирями повисла на ногах.
— Алло! — Опять этот гнусавый голос, голос телефонного посредника, предлагающего уроки бального танца, голос уличного торговца, пытающегося толкнуть краденые часы.
— Нет, он не получит даже своих комиссионных за посредничество, этот сукин сын… Что? Да, Муррей, я вас слышу, но этого подонка даже арестовать нельзя… Нет, он нам не нужен… Что вы говорите? Передайте ему, что я пущу это с молотка! У меня подготовлен еще один павильон — на всякий случай… Так какого черта я должна?.. Я же вам говорю, он мне не нужен!.. И не смейте мне звонить, пока не избавитесь от него. Да, именно так. Или я найду себе другого адвоката, черт побери. Вы слышите меня? Я ведь ни перед чем не остановлюсь! — И она швырнула трубку на рычаг.
Потом, сладким голосом, обращаясь ко мне:
— Почему бы вам не отменить встречу? Мы бы могли вместе пообедать, поговорить по душам… И ни слова о делах!
И я отменила встречу. Она же еще целый час орала что-то в телефон и сушила копну огненно-рыжих волос, а я, постепенно скисая, все ждала. Так я потеряла все: чувство собственного достоинства, способность сопротивляться, свои принципы и нравственные установки. Мы были знакомы с ней всего один день, а я уже ради нее проторчала в гостинице три часа. Так была заложена модель наших взаимоотношений.
За обедом она пыталась убедить меня, что где-то в глубине души мы с ней — сестры. Действительно, многие люди откликнулись на «Откровения Кандиды», но — чего я не могла даже предположить, — книга стала лакмусовой бумажкой, на которой проявились особенности психики отдельных людей. Что-то в ней было такое, что взволновало всех. Мне писали студенты и совершенно необразованные люди. И лишь много позже я поняла: если ко мне приходит человек и говорит: «Я — это ты», — то совсем не значит, что так оно и есть. А некоторые критики настолько не смыслят ничего в природе художественного творчества, что вводят в заблуждение и самих писателей, которые, казалось бы, должны лучше разбираться в этом деле. Ведь просто жизнеописание человека неинтересно никому — разве что ему самому, да еще его мамочке. Автобиография никого не взволнует, не затронет потаенные струны души, пока не обрастет художественной деталью, не вберет в себя элементы вымысла, — пока не превратится в некий миф. А уж превратившись в миф, она выйдет за рамки обычной автобиографии. И даже просто художественной литературы.
Так что, конечно же, Бритт отождествляла себя с героиней. А почему бы и нет? Она сама была простой еврейской девушкой из Флэтбуша. Она много натерпелась от мужчин, да что там от мужчин — от всего мира! Но, думаю, если у нее и были неприятности в жизни, то можно не сомневаться, что, используя терминологию нью-йоркской полиции, произошли они по вине потерпевшей стороны. Что до мужчин, то я не могу представить себе ни одного, который, трахнув Бритт, не повредил бы себе половые органы. Раз в голосе у нее звучал металл, то можно было предположить, что внутренности у нее сделаны из столь же прочного материала.
— Самое главное, — заявила она мне за обедом, — что мужчины взяли себе слишком большую власть и не дают женщинам развернуться. — При этих словах вид у нее был настолько самодовольный, будто она только что, не сходя с места, расшифровала древние скрижали.
Что я могла на это сказать? Что мне это вовсе не кажется главным в моей книге? Что она набитая дура? Что, по-моему, она играет на чувствах женщин, чтобы сколотить на этом капитал? а на самом деле совсем не сочувствует им? Мы обедали в ресторане гостиницы, и она, конечно же, устроилась, как удобно ей, а меня посадила на стул в проходе. Мы ждали, когда подадут рыбу, а пока потягивали белое вино, которое искрилось и переливалось в тонких изящных бокалах. Бритт предложила тост за женщин, и тут, откуда ни возьмись, выполз таракан. Он не спеша проследовал к ее сумочке, заполз в нее и спустился в кожаные глубины, чтобы найти там табачные крошки, недокуренные сигареты с марихуаной, маленькую ложечку для кокаина, набор французской косметики, горстку потускневших монет, запас противозачаточных таблеток, пузырек из-под валиума, наполненный чистейшим кокаином, скрученную стодолларовую бумажку, чтобы занюхивать его (про ложечку она успела забыть), и бумажник, набитый кредитными карточками, туристскими чеками и визитками людей, которым ей никогда не придет в голову позвонить.
Я видела, как таракан залезал в сумочку, но решила промолчать. Мы еще увидимся с Бритт.
Любовное приключение с «роллс-ройсом»…
Если ты делаешь это один раз, — ты философ. Если делаешь второй — ты извращенец.
(С моими извинениями — Вольтеру).
Жизнь толкала меня на запад, прочь от 77-й улицы, — хотя тогда я еще не могла этого понять. Появлялись посланцы, которые говорили мне, что пора покидать старый квартал, отрываться от корней, двигаться вперед. Одним из таких посланцев была Бритт — эдакий Мефистофель в женском обличье, щеголяющий черными трусикам. Другим была Розанна Ховард. В тот день, когда ее «роллс-ройс» «Корниш» остановился у моего дома на 77-й улице, стало ясно — что-то должно измениться в моей судьбе. Хотя я и не сразу это поняла.
Розанна была моей ученицей, которая уже много месяцев добивалась моей дружбы. Ее было невозможно не заметить: она появлялась на семинаре начинающих писателей (который собирался у меня на квартире) в роскошном «роллс-ройсе» с шофером, одетая в джинсы и расшитую блестками майку, которая больше подошла бы какой-нибудь рок-звезде. Еще она любила черную помаду, босоножки на шпильке (высотой не менее 6 дюймов) и сильный запах мускусного масла, который как бы говорил, что очень богатые люди принципиально отличаются от нас, простых смертных. Чем именно они отличаются, мне довелось узнать значительно позднее. Она писала стихи о разрушающихся наследных поместьях и причудах секса и казалась мне человеком интересным, но я была слишком поглощена своими проблемами, чтобы заводить новых друзей (в тот год я и со старыми-то редко встречалась). Кроме того, я была наслышана о богатых девушках и не испытывала от них ни малейшего восторга. Богатые любят коллекционировать писателей, а я не хочу, чтобы меня коллекционировали. Меня это нервирует. Но однажды утром Розанна позвонила мне после особенно тяжелого разговора с Беннетом.
— Это Розанна Ховард, — представилась она. Приятный звонкий голос явно принадлежал воспитаннице женского пансиона со Среднего Запада. Очевидно, я как-то показала, что не очень рада ее звонку, потому что она поспешила спросить: — Я случайно не помешала?
— Нет-нет, все в порядке, — соврала я. Но я не умею лукавить, и мой голос выдал меня. Обычно меня выдает лицо.
— Вы, мне кажется, чем-то огорчены, — сказала Розанна как ни в чем не бывало. — Я могу чем-нибудь помочь?
— Да нет, ничего. Это очень любезно с вашей стороны, но я, правда, не… — Только Розанна могла заставить меня произнести слово «любезно».
— Вы сегодня свободны? Мне бы очень хотелось пригласить вас на обед.
«А почему бы и нет, — подумала я. — Все равно работы сегодня уже не получится.»
Через двадцать минут подъехал ее «роллс-ройс». Наш привратник-жополиз, пресмыкающийся перед всеми эмигрант из Восточной Европы по имени Валериан, склонился в глубоком поклоне перед этим хромированным чудом:
— Розкошный машина, — сказал он, — хароший люди.
У него не было всяких там жалких либеральных фантазий. Деньги — хорошо, бедность — плохо. Богатые «лучче» бедных. Рецепт прост: с детства прививайте человеку коммунистические идеалы, и он вырастет ярым сторонником капитализма.
Мы с Розанной обедали в «Карлайле», и я настояла на том, чтобы самой оплатить обед, поскольку знала, что ничто не может привязать тебя к богатому сильнее, чем оплата твоих счетов.
Розанна выросла в Чикаго, унаследовала «маленькую железную дорогу» (которая, как случайно оказалось, подходила как раз к скотопригонному двору), затем переехала в Брин Мор (где впоследствии окончила колледж Сары Лоренс), вышла замуж за чопорного зануду-юриста, который очень любил ее деньги, родила от него сына, а потом ушла от него к веселому юристу-жизнелюбу (который, как выяснилось, тоже любил ее деньги, но гораздо успешнее это скрывал). Его звали Роберт Черни (а я прозвала «неуклюжий чех»). Для девушки из высшего света Чикаго он олицетворял протест, свободу, Стэнли Ковальского, секс, самоуничтожение и восторг. Он носил золотой перстень, двадцатипятидолларовые галстуки и продолжал орально-генитальные сношения даже во время месячных (чего в жизни не стал бы делать ни один протестант англо-саксонского происхождения). Вот путь к сердцу женщины.
У них была квартира в Чикаго на Лейкшор-драйв, где жила нянька с сынишкой, а Розанна и Роберт предпочитали путешествовать. Когда Розанна начала «Писать», она поселилась в Нью-Йорке, наняв шофера и сняв небольшую квартирку где-то в районе 50-х улиц. Как всех мятежных поэтов, ее тянуло в центры культуры, чтобы там снискать себе литературную славу. Роберт курсировал между Чикаго, Нью-Йорком и Вашингтоном, где устраивал какие-то загадочные дела и трахался направо и налево. У них был ультралиберальный брак: они вообще никогда не виделись. Но Розанна была всегда на стороне «Роба». Он был ее протестом и ее защитой, потому что, видите ли, на самом деле она предпочитала женщин. А любой лесбиянке, желающей скрыть свой тайный порок, нужен муж, которым можно прикрывать истинную страсть. Я не слышала, чтобы кто-нибудь произносил слова «мой муж» столь же часто, как Розанна.

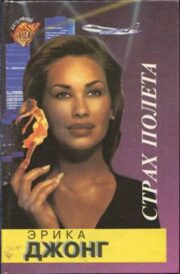
"Как спасти свою жизнь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Как спасти свою жизнь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Как спасти свою жизнь" друзьям в соцсетях.