Губы делали свое дело, но мысли мои были далеко. Господи, когда же он, наконец, кончит и можно будет вынуть изо рта этот дурацкий кляп! Я поступила, как добрый самаритянин; с тем же успехом можно было перевести слепого через дорогу или дать кому-нибудь свою кровь. Но в душе зрело чувство протеста, потому что секс — слишком мощная сила, чтобы разбазаривать его по пустякам. Я досадовала на себя за то, что была неискренна с ним, как, впрочем, и с Джеффри Раднером. Заниматься любовью из жалости ничем не лучше, чем из эгоистической прихоти. Это две стороны одной и той же фальшивой монеты. И мой поступок не становился лучше оттого, что Джеффри Робертс вздыхал, стонал, а потом долго благодарил меня. Спрашивается, за что? Разве за жалость благодарят?
— Разреши мне заплатить сегодня за обед, — сказала я, и мы отправились в «Тратторию», где навалились на пиццу и zuppа inglese. За столом мы чувствовали себя гораздо непринужденнее.
Я расплатилась с официантом и посадила Джеффри на десятичасовой поезд до Гринвича, а потом из автомата позвонила Холли.
— Господи, — отозвался сонный голос, — который час? Я только что приняла валиум.
— Можно, я зайду к тебе?
— Ну, конечно, заезжай. Я всегда рада тебе. Вообще-то обычно я на такие вопросы обижаюсь, но сегодня я слишком устала и хочу спать. Где ты находишься, черт тебя побери?
— На «Гранд-Сентрал».
— А, перекресток человеческих судеб…
— Это ты сказала, не я.
— Так, который час?
— Всего-то минут двадцать одиннадцатого.
В трубке слышится тяжкий вздох.
— Приезжай. Я заварю чай с мятой, а потом мы примем валиум еще раз.
Квартира Холли — это святилище. Вот таким должен был бы быть кабинет психоаналитика. Еще один чердак в моей жизни, на этот раз в самом начале 5-й авеню, — к нему ведет узкая темная лестница. Но когда входишь в квартиру, на тебя неожиданно обрушивается свет и откуда ни возьмись возникают простор, воздух и причудливые силуэты растений. Вечерний свет, проникающий сквозь застекленную крышу, освещает джунгли из папоротников; на бесчисленных подставках под люминисцентными лампами, которые автоматически регулирует специальное реле, растут африканские фиалки. По обе стороны посыпанной искусственным гравием дорожки, отделяющей жилое помещение от кухни, зреют и благоухают авокадо, лимоны, гардении и кумкваты. Как ей удается выращивать все это тропическое многоцветье в мрачном, закопченном Нью-Йорке, ума не приложу. Правда, подозреваю, Холли выращивает их потому, что только благодаря этому и живет. Благодаря своим растениям и картинам, которые закрывают все свободное пространство на стенах.
Как определить ее стиль? Что-то среднее между Джорджией О'Киффе и Френсисом Бэконом? Не совсем. Холли единственная в своем роде. Она умеет как-то по особому взглянуть на простые вещи, которых мы подчас даже не замечаем. Она наделяет их волшебными свойствами и заставляет нас увидеть их глазами Блейка — или самого Господа Бога. Наверное, такой же могла бы стать и я, будь у меня побольше таланта и не откажись я в двадцать лет от карьеры художника из страха, что придется конкурировать с матерью. Каждое полотно Холли — один из моих ночных кошмаров. И это поразительно. Дело в том, что все мои друзья утверждают, будто в своих стихах я выражаю их сокровенные мысли и чувства, Холли же, напротив, в каждой своей картине передает мою внутреннюю жизнь.
Холли — высокая, стройная, пышущая здоровьем женщина с копной курчавых каштановых волос и маленьким ртом, который чаще всего имеет какое-то кислое выражение. Она не полнеет, потому что стоит ей впасть в депрессию, как она просто перестает есть и худеет до тех пор, пока аналитик не начинает пугать ее тем, что положит в больницу. Она и ее растения питают друг друга живительными соками. Она и держится только за счет кислорода, чая из трав и таблеток валиума. Часто с удивительной страстностью Холли рассказывает мне, насколько идеально устроен папоротник, этот древнейший представитель растительного мира. Он сам себя кормит, сам себя удобряет, имеет автономную систему размножения и практически бессмертен. Или хотя бы какая-то его часть. Я никогда в жизни не встречала человека, который мечтал бы родиться растением, но в устах Холли эта идея звучит заманчиво.
Дверь открывается, и я попадаю в ее объятия. После долгих лет в протестантском интернате, где воспитанницам прививали чопорность и холодность, Холли только недавно научилась обниматься, поэтому обнимает всех подряд. Меня больше всех. И мне это нравится.
Над фиалками горят люминисцентные лампы, но остальное помещение погружено во мрак. Мягкие заросли папоротников тянутся к серебристому свету, льющемуся с потолка.
— Входи скорей, — говорит Холли. На ней широкий в восточном стиле халат, который она сшила сама. От нее исходит аромат сна, уюта, домашнего тепла и едва уловимый запах духов «Гардения джунглей». Я сажусь в кресло-качалку, согнав кота по кличке Симор и скинув несколько самодельных подушек.
— Откуда ты, черт возьми, взялась?
— Я обедала с Джеффри Робертсом.
— А, с этим салагой…
— Он очень милый. И такой несчастный…
— Я бы тоже была несчастной, если бы жила в Гринвиче, в населенном призраками доме с безумной женой… Господи, ведь она у него явно не в себе…
— Он собирается с ней развестись.
— А ты, никак, собираешься его спасти. Тогда дай я приму валиум и завалюсь спать.
— Нет, Холли, с чего ты взяла? Я его не люблю, я хочу сказать, в этом смысле, хотя иногда мне очень хотелось бы его полюбить. Но и Беннета я больше выносить не могу.
— Ну, ведь это не значит, что тебе нужно уйти от него к другому мужчине. Есть люди, которым нравится одиночество. И, я тебе скажу, это не страшнее смерти.
Я оглядываю гнездышко Холли, которое, несмотря на погашенный свет, все равно кажется теплым и уютным. Лучше бы я весь день просидела здесь, вместо того чтобы в поисках спасения шляться по Нью-Йорку. Ведь чем я занималась целый день? Гретхен, Хоуп, доктор Шварц, Джеффри Раднер, Джеффри Робертс. И вот теперь я здесь. И все только ради того, чтобы не идти домой, к Беннету. Да, это последняя черта, дойдя до которой, брак уже нет смысла спасать.
— Ты знаешь, Холли, я, главное, сама не могу понять, почему я так обозлилась на него. Я хочу сказать… у меня у самой были мужчины. Да иногда я просто мечтала, чтобы он завел интрижку, — тогда, по крайней мере, я бы поверила, что он живой человек.
Холли в замешательстве.
— О чем ты говоришь?
— Ты помнишь, я звонила тебе сегодня утром?
— Так ты имеешь в виду ту бабу, которая была у него в Европе?
— И потом здесь, когда мы вернулись домой.
— Я считаю, что с его стороны просто бесчеловечно сказать тебе об этом именно теперь.
— Но почему я все-таки так взбесилась, почему готова уйти от него хоть сейчас? Ведь это ничего не добавило к нашим отношениям. Я и сама ему грешным делом изменяла, я тоже не ангел. Ну, завел себе бабу на стороне… Он ведь мне простил мои прегрешения…
— Прощение тут ни при чем.
— А что же тогда при чем?
— Любовь.
— О Господи! Лучше бы мне никогда этого слова не слышать!
— Если бы ты любила Беннета, если бы он давал тебе что-нибудь помимо вечных нотаций, чувства вины и бесконечных огорчений, не думаю, чтобы ты серьезно отнеслась к его изменам. Ну, подумаешь, вставил он свою штуку в чужую дырку. Тоже мне, большое дело. Вообще не понимаю, почему это должно кого-то волновать.
— Вот это да! Какой прогресс! Никогда не слыхала, чтобы ты употребляла слово «дырка». Как ты думаешь, сколько тебе потребуется времени, чтобы созреть до слова «влагалище»?
— Пошла ты на х…!
— Браво! Вот это здорово!
Холли любила повторять, что первые три года занятий с психоаналитиком ушли на то, чтобы научиться говорить слово «х…», следующие три года она училась не испытывать при этом смущения, а потом ей потребовалось еще три года, чтобы ввести его в речь. Она и сейчас нечасто произносит его. Но раз на то пошло, папоротник этого не делает никогда.
— Дорогая, ты хочешь знать, как бы поступила на твоем месте я?
— Я за тем и пришла.
— Хорошо. Буду с тобой откровенна до конца. Я никогда не слышала от тебя о Беннете ни одного доброго слова, кроме того, что он хороший любовник.
— Неужели?
— Вот тебе крест. За те три года, что мы знакомы, — никогда!
— Знаешь что? На самом деле и любовник-то из него никудышный…
Холли опускает глаза:
— Прибереги эротические подробности для своей новой книги, а мне лучше вот что скажи: ты не задавалась вопросом, почему ты так до смерти боишься остаться одна? Ведь это намного лучше, чем жить с живым мертвецом.
— А мне казалось, что тебе нравится Беннет.
— Что значит — нравится, не нравится? Он для меня загадка. Как-то раз, помню, он с большой заинтересованностью обсуждал повторный сеанс психоанализа десятилетнего ребенка, но кроме этого я не припомню случая, чтобы наши с ним беседы имели эмоциональную окраску. Я не имею ни малейшего представления, что у него на душе. Счастлив ли он? Печален? Только его психоаналитик может сказать наверняка.
Мне вдруг становится жалко его.
— Он такой бедный, — говорю я. — Мне кажется, я вношу хоть какое-то разнообразие в его убогую жизнь. Как же я могу вот так просто взять и уйти?
— А что он вносит в твою жизнь? Смертную муку? Послушай, родная моя, ну разве можно жить с человеком из жалости? Особенно в тридцать два. Жизнь так быстротечна, ты уж меня извини.
— Но ведь он без меня пропадет…
— Черта с два. Ты, мне кажется, переоцениваешь себя. Он будет прекрасно себя чувствовать.
— Откуда ты знаешь?

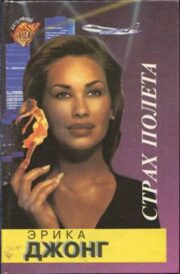
"Как спасти свою жизнь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Как спасти свою жизнь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Как спасти свою жизнь" друзьям в соцсетях.