А тогда я влюбилась в его письма. Он так хорошо писал, что казался мне красавцем, — ведь иногда и дикторы радио кажутся нам красивыми только потому, что нам нравятся их голоса. Конечно же, перед его отъездом в Бразилию я видела его, видела его веснушки, его голубые бусинки-глаза под короткими белобрысыми ресницами. Но письма его были так хороши, что я забыла его лицо. Два года длился наш заочный роман в письмах. Романтическая история в духе Ричардсона, почти восемнадцатый век. А потом он вернулся. Увидев вновь его свиное рыльце, я не смогла его полюбить. О, мне было так неудобно. И очень стыдно. С моей стороны это было крайне недемократично. Но разве бывает демократичная любовь? К сожалению, в нашем несовершенном мире существует полное несовпадение взглядов. И невозможно предсказать, что станет причиной любви: чуть-чуть кривая улыбка, слегка удлиненные передние зубы или то чувство, которое лавиной нарастает в тебе, когда щеку твою нежно щекочут волосы на его широкой груди. Мне очень жаль. Это придумано не мной. Я обязательно исправлюсь — в следующий раз.
И все-таки я старалась. «Индустриальные рабочие мира» не уступают человека без борьбы. Год за годом я боролась с собой, заставляя себя полюбить то, что просто невозможно полюбить. Я знаю, все несовершенство мира — это моя вина. Но мне так хотелось бы, чтобы мир был справедлив. Я решила сделать его хоть чуточку справедливее для Джеффри. Каждое утро в одиннадцать он мне звонил. И мы долго беседовали о литературе. Мы оба были так одиноки: у него не было никаких точек соприкосновения с женой, а я не могла поделиться с мужем своими переживаниями. Возможно, что мы спасли друг другу жизнь, висевшую на ниточке этих телефонных бесед. Они связывали нас с внешним миром. Я — дома — писала романы и стихи. Он — в конторе — байку о креме для рук и сонеты о лосьоне для загара. Как минимум раз в неделю мы вместе обедали, напиваясь допьяна и от души веселясь, объедаясь лакомствами и обмениваясь книгами, рукописями, открытками, сувенирами и тайными намеками. Иногда на горизонте возникало уродливое изголовье кровати. Проходило полгода (я подозреваю, что в глубине души Джеффри боялся меня), и тогда оно возникало вновь. Мы встречались у меня, обедали, а потом угощались друг другом на десерт — в моем кабинете, на старой обитой велюром лежанке, принадлежавшей еще моим деду с бабкой. После этого Джеффри так довольно урчал, будто я была кружкой пива. И мне требовалось еще полгода, чтобы снова собраться с силами.
Так развивался наш «роман». Шесть месяцев писем, телефонных звонков и совместных обедов за каждый половой акт или обед с «обнаженной натурой». И каждый раз после близости с ним я клялась себе: «Никогда!» В нем не было даже элементарной физической привлекательности. Но проходили месяцы, и я забывала, как он безобразен в постели, а через полгода уже готова была попробовать вновь. И тогда снова все вспоминала.
— Мы толком-то ничего так и не успели, — говорил Джеффри в такие дни. Он обдумывал разные приемы, верил в радости секса, возбуждающие ласки и прочую ерунду.
Я тоже размышляла, но совсем о другом. «Больше никогда!» — в очередной раз повторяла я. Но я любила его. Это был мой друг.
Я считала его страшно забавным и талантливым, любящим и остроумным, очаровательным, образованным, умеющим замечательно анализировать мои стихи. Поэтому я каждый раз убеждала себя, что нужно попробовать еще — в самый последний раз, — и этот самый последний раз был так же ужасен, как и предыдущий. Вот как обстояли дела с моим двойным Джеффри: одну его половину я любила от всей души, но физическая близость с ней была мне противна; я обожала заниматься любовью с другой половиной, но так и не смогла ее полюбить. Душевный разлад, думала я. Деление людей на любовников и друзей. Как всегда, я проклинала себя за неспособность свести их воедино.
Восемь вечера. Я застаю Джеффри за наброском сценария телерекламы жидкости для загара.
— Загар, загар, — говорю я со смехом, появляясь в дверях, — загорев, ты чувствуешь себя негром. Будьте не просто загорелыми — будьте Черными! Пользуйтесь преимуществами равных возможностей, нанимаясь на службу, чтобы вам не перебежали дорогу равные вам. Или не помешала ваша молодость.
— Ты явно хочешь, чтобы меня уволили, — говорит Джеффри и добавляет: — Привет, красотка! Ты неотразима, как всегда.
Может быть, Джеффри и некрасив, но он знает, как заставить женщину почувствовать себя красивой. А что еще нужно женщине: ощущение собственной неотразимости, немного напускной раскрепощенности — и через мгновение любой мужчина у твоих ног.
— Как дела? — спрашиваю я.
— Чтобы такое рассказать тебе про жидкость для загара, чего ты еще не знаешь о ней?
— Действительно ли для загара помогает куриный жир?
— Только еврейкам, — отвечает он.
Я сажусь в кресле и чувствую себя как дома — я у Джеффри в кабинете. Кабинеты друзей, разбросанные по Манхаттану, — это мои уголки Эдема, дом вдали от дома, места, где я могу укрыться от Беннета, от своего творчества, от самой себя.
— Как Ребекка? — спрашиваю я.
Ребекка — это жена Джеффри, урожденная баптистка, а ныне адвентистка седьмого дня и законченная шизофреничка.
— Совсем взбесилась. Она заставила меня снять картину Флэннери О'Коннор, висевшую у меня над письменным столом, потому что — ты только вообрази! — О'Коннор — это ирландское имя, а ирландцы — враги англичан, а она происходит из английской семьи. И такая логика доминирует в нашем доме. Если так и дальше пойдет, то я, наверное, скоро съеду.
— Вот здорово! И я!
Лицо Джеффри светлеет.
— Если тебе вдруг понадобится сосед…
Я чувствую внезапный укол совести за то, что в этом смысле его не люблю.
— О, Джеффри! Если бы это на самом деле могло произойти…
— Ерунда. Мы просто никогда не пробовали как следует… Я просто уверен, что только это может нас спасти. Ты все время говоришь, что уходишь от Беннета, но при этом не хочешь жить одна. А мы бы могли заботиться друг о друге — я не говорю, пожениться и все такое, — а просто посмотреть, что из этого получится. Я потрясающе готовлю, милая ты моя.
— Я знаю, — на мгновение я представляю себе нашу с Джеффри жизнь. Книжные полки, уставленные работами о творчестве Флэннери О'Коннор, ласкающий ухо стук двух пишущих машинок — на фоне Скрябина, — рыба в белом вине, закипающая на плите в огромной эмалированной кастрюле (Джеффри — большой мастер по части рыбы в белом вине), кошки с дурацкими литературными кличками: Перси Биши, Чайльд Гарольд, Франкенштейн… Но тогда мне придется заниматься с Джеффри любовью. Хотя бы иногда, просто из вежливости. Если бы меня не так волновала эта сторона жизни, я бы, наверное, и отважилась. Да, наверняка отважилась бы. С кем еще мне было бы так интересно читать вслух, возиться на кухне, бродить по книжным лавкам, путешествовать и смотреть на открывающийся из окна пейзаж, вместе смеяться, вместе пить вино? Да ни с кем, кроме Джеффри. Проклятый секс. Если бы можно было изгнать его из организма! Без секса было бы так легко найти человека, с которым приятно жить. Секс — это джокер, хитростью проникший в высоконравственную и добропорядочную со всех сторон карточную колоду.
— Ты же знаешь, ведь я люблю тебя, — говорит Джеффри.
Я киваю:
— Я тоже тебя люблю.
— Ты любишь совсем по-другому, не так, как я тебя.
— Чепуха.
— Конечно, для тебя чепуха. Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Мы слишком давно знаем друг друга, и я достаточно хорошо тебя изучил. Мисс Прозрачность. Я читаю твои мысли. Если бы я хоть отдаленно напоминал Роберта Редфорда, мы бы уже четыре года как и готовили вместе, и просыпались бы в одной постели.
Я сижу, уставившись в пол. Господи, чем это я только что занималась с Джеффри Раднером? Ведь я совершенно не люблю его. Может быть, стоит еще раз попробовать с Джеффри Робертсом? Его-то я люблю. Действительно люблю.
— Любовь, — изрекает Джеффри, — это общность ощущений двух людей. Но факт остается фактом: общность ощущений не означает, что это одинаковые ощущения. В каждой паре есть влюбленный и есть любимый, и живут они на разных полюсах. Любимый — это часто лишь стимул…
— Карсон Мак-Кьюллерз?
— Ты прочитала эту книгу?! Ты действительно прочитала одну из книг, которые я тебе дал! А я уже почти перестал надеяться.
— Послушай, — говорю я, — мне бы так хотелось, чтобы мы с тобой жили на одном полюсе.
— Мне тоже.
— Я провела ужасный уик-энд с Беннетом, и теперь мне кажется, что я действительно готова уйти от него.
— Я это уже слышал.
— Нет, я серьезно.
— И это я тоже слышал. Не понимаю, чем он тебя так к себе привязал. Ты никак не хочешь поверить, что сможешь прожить одна. Но ты не будешь одна!
Я уже думала об этом. Джеффри кажется, что трещит по швам только его собственная судьба, а жизнь другого безоблачна и не дает поводов для беспокойства. А я, например, уверена, что просто чокнусь, оставшись одна. Без Беннета я перестану существовать. Рядом с ним меня удерживает панический страх. Кроме того, я не могу взглянуть на себя, как Джеффри, — со стороны. Он видит меня красивой, разумной, уверенной в себе, с радужными перспективами, открывающимися впереди. Себе самой я кажусь воплощением нерешительности и сомнений, вместилищем маний и помешательств; я неспособна принять окончательное решение, я всегда недооценивала себя. Мое время прошло, я слишком стара, слишком дорожу своими привычками; я привыкла иметь защитника и чувствую себя в безопасности только с ним. Я бы рассмеялась в лицо любому, кто сказал бы мне, что я молодая женщина с блестящим будущим. По крайней мере — тогда. Мне нужно было стать намного старше, чтобы понять, как молода я была.
Джеффри подошел ко мне, приподнял со стула и неуклюже обнял. Я притворилась, что воспринимаю это как дружеский знак, и в ответ обняла его. А он уже начал пыхтеть, прижимаясь ко мне бедрами и умоляя, умоляя меня сказать, что он вовсе не уродлив, вовсе не несчастлив, что он не задыхается от работы, которую ненавидит, от брака, который проклинает, от всей этой жизни, которую он хотел бы сделать совсем иной. И вот я уже стою на коленях и трогаю губами его член в доказательство того, что среди всех несбывшихся надежд и неисполненных желаний есть еще на свете верная дружба.

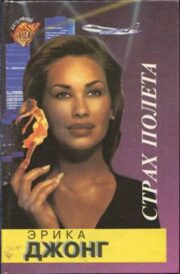
"Как спасти свою жизнь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Как спасти свою жизнь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Как спасти свою жизнь" друзьям в соцсетях.