А вот и Джеффри Раднер, доктор медицины, — он шагает мне навстречу по Парк-авеню. Когда я вижу, как он скачет ко мне после своего аналитического сеанса (а я возвращаюсь после своего), я всегда вспоминаю его таким, каким он предстал передо мной в нашу первую встречу во время отдыха на Кейп-Коде, — слегка глуповатым хиппи-переростком с идиотским смешком. Он носит бородку и узкие мексиканские галстуки, а ходит так, словно у него под пятками бьет гейзер, — этакий попрыгунчик, скачущий по тротуарам Нью-Йорка. На ходу он обдумывает исследование — с точки зрения психоанализа — творчества Еврипида и Софокла, которое ему, кажется, так и не суждено написать.
— Привет, сладкий, — он улыбается мне. Если бы такое было возможно, у него из глаз, наверное, потекли бы слюнки.
— Привет, — радостно отвечаю я. С Джеффри я всегда чувствую себя немножко обманщицей, потому что в глубине души считаю его дурачком. Достаточно симпатичный, но какой-то легкомысленный. Интересно, согласилась бы я лечь с ним в постель, если бы он не сказал мне, что страдает волчанкой?
Мы сидели на нудистском пляже в Труро, потягивая белое вино и покуривая опиум, и делали вид, что нам совершенно безразличны наши голые тела, а разговор вовсе не напоминает подготовительный этап небольшой интрижки, как вдруг он внес в наши посиделки торжественную ноту, заговорив о своей редкой неизлечимой болезни. Супруги наши были далеко (они не одобряют нудизма), но нас это не волновало. В конце концов мы свободные люди, о-ля-ля! И наши зануды-супруги нам не указ! Впервые в жизни у меня покроются загаром даже соски, и его обрезанный, но в остальном ничем не примечательный член тоже получит свою порцию инфракрасных лучей. Мы шутили, и смеялись, и делали вид, будто не замечаем своей наготы, когда Джеффри вдруг объявил, что в любую минуту может умереть — через месяц, год или даже десять лет.
— Да и я тоже, — пошутила я и посмотрела на свои растрепанные волосы, которые, как мне того хотелось, уже начали выгорать. Но он не шутил. Оказывается, он свыкся с мыслью о своей неизлечимой болезни и она принесла ему ощущение полной свободы. Прежде чопорный психоаналитик, он стал теперь неисправимым гедонистом. Однажды, вот на этом самом пляже, когда он пришел сюда искупнуться в шесть утра (в этот час здесь еще не копошатся малыши со своими голыми пышнотелыми мамашами, а вечные пляжные мальчишки уже разошлись по домам), выходя из воды, он наткнулся на «русалку», девчонку-хиппи пятнадцати-шестнадцати лет. Ей вдруг понадобился массаж спины, который, конечно же, перешел в массаж живота и груди и закончился актом любви, после чего они расстались, даже не назвав друг другу своих имен.
— Как в «Последнем танго».
— Если пользоваться вашей терминологией, распущенная девчонка.
Я бросила на него сердитый взгляд: не люблю, когда меня извращают.
— Вы хотите сказать, без комплексов.
— Нет, распущенная, — настаивал он.
— Ну, хорошо, пусть будет по-вашему. Сам-то акт доставил вам удовольствие? Оригинальность идеи я под сомнение, конечно, не ставлю.
— Я уже не помню, сказать по правде.
Потом он в мельчайших подробностях стал рассказывать о других аспектах своего духовного освобождения: о половом акте с молодым художником (потому что он не может умереть, не познав, что такое гомосексуализм), об интрижке с оголтелой феминисткой (он же не может умереть, не поняв, что такое оголтелый феминизм), о связи с юной шведкой…
— Потому что вы не можете умереть, не узнав, что такое шведка?
— Конечно, вам, милочка, смешно, но у вас нет неизлечимой болезни. А это совершенно меняет дело.
Это действительно меняло дело. Поэтому, когда Джеффри стал подкатывать ко мне с определенными намеками, я на некоторое время задумалась, а потом сказала себе: «В конце концов, у него неизлечимая болезнь…» В воображении я уже занималась любовью со смертью, вдыхая в смерть жизнь, отрицала самое смерть. Вот это дело! Но как проверить, правду ли он говорит? И, главное, сама-то я не заражусь? Этот вопрос я задавала себе всякий раз, когда предавалась любви с Джеффри. И всякий раз, приходя домой, часами стояла под душем, стараясь смыть с себя невидимую заразу.
Наше первое свидание больше напоминало фарс. На каком-то чердаке у Гретхен была комната, где она принимала клиентов-мужчин (после того, как их ответы на «Анкету-Ф»[2] получали наше одобрение) и которую время от времени предоставляла мне. Джеффри сказал, что раздобыл кокаин и хочет, чтобы мы попробовали его вместе. Пожалуй, это был только предлог. Если бы я тогда знала хоть что-нибудь о кокаине (хотя я и теперь не очень-то о нем осведомлена), я бы поняла, что он не знает вообще ничего. С того количества порошка, которое «раздобыл» Джеффри, не поймал бы кайф даже таракан (которых, кстати сказать, в этой комнатушке было полно); к тому же, как его нюхать, он тоже не знал. А тем более не знала я. Мне как-то не доводилось беседовать со знатоками. Я была рядовой женой рядового психоаналитика из Аппер-Вест-сайда и отъявленным искателем приключений. Кокаин так кокаин. Он отменил дневной прием — в пятницу, в сентябре. Я заперла кооператив, сказала мужу, что пошла в «Блумингдейл», а сама отправилась на рандеву.
Шпионские страсти. Мы с Джеффри чувствуем себя преступниками, поэтому в целях конспирации добираемся до офиса Гретхен в разных такси, встречаемся внизу в вестибюле, обмениваемся таинственными взглядами и расходимся: я — к Гретхен за ключами от чердака, Джеффри — в магазин, запастись пивом и бутербродами. Потом, опять порознь, мы едем на 19-ю стрит.
Когда мы встречаемся вновь в подъезде возле шаткой деревянной лестницы, мы начинаем озираться кругом — распутные дети Израилевы — в поисках черного хода. Это западня. ПСИХИАТР И ПИСАТЕЛЬНИЦА ЗАХВАЧЕНЫ ОГНЕМ НА ЧЕРДАКЕ. Но мы упорствуем в своей жажде приключений. Надо видеть этот чердак! Скрипучие половицы, тощие стволы авокадо в горшках. Матрас, брошенный прямо на грязный пол. Грязные простыни. Под дешевым индейским покрывалом — грязная кушетка. На окнах — вся грязь и пыль Нью-Йорка. А это уже в стиле Гретхен: у кровати — ваза с баночками ореховой пасты и серебряный поднос, а на нем — широкий выбор противозачаточных средств: презервативы, суспензии, резиновые колпачки и в довершение ко всему — склянка «Росы юности», ее любимых духов. Храни ее Бог.
Мы с Джеффри нервно расхаживаем по комнате, глупо хихикая, а потом наконец садимся на кушетку и начинаем разворачивать сверток с бутербродами.
— Ну что, кокаин сейчас попробуем или подождем? — спрашивает этот конспиратор.
— А чего ждать?.. Он достает два крошечных пакетика — как обычная упаковка соли для пикника, — а из кармана пиджака вынимает две видавшие виды соломинки с обрезанными краями. Я в ужасе. О Боже! А вдруг этот волшебный порошок превратит меня в сексуального маньяка? Вдруг я полностью потеряю контроль над собой?
— Нюхай, — говорит он мне с видом знатока, хотя и сам с трудом представляет себе, что делать дальше. Я же выдыхаю вместо того, чтобы вдохнуть, и все ничтожное количество порошка разлетается по комнате, медленно оседая на грязную кушетку и грязное индейское покрывало.
— Ничего, — терпеливо говорит он, — попробуй еще, — и предлагает мне содержимое второй упаковки.
— Нет, не могу. Я это тоже рассыплю.
Он настаивает:
— Ну пожалуйста!
— Нет, теперь ты.
— Ну пожалуйста, я прошу.
— Нет, ты сам.
— Ну пожалуйста…
— Ни за что. Только после тебя.
— Ну, я умоляю…
— Нет, это твоя порция.
Джеффри нюхает порошок. Он глубоко вздыхает, и лицо его начинает светлеть, будто с такой дозы можно что-то почувствовать.
— Ты что-нибудь чувствуешь?
— Не знаю.
— Значит, не чувствуешь, дурачок.
Джеффри откидывается на подушки.
— Мне кажется, чувствую. Здесь… Ты тоже попробуй.
— Да порошка-то совсем не осталось.
— Нет, еще немножко есть. Вот.
Он подносит к моему носу порошок, и я вдыхаю его. У меня щекочет в носу. Может быть, это от пыли на чердаке? Потом мы сидим, глядя друг на друга, и ждем, когда же мы, наконец, превратимся в обезумевших от страсти нимфу и сатира, для которых нет запретов в любви. Но почему-то ничего не происходит.
— Ну, как ты? — спрашиваю я.
— Гм-м… интересно, — отвечает он.
— Интересно что?
— Это.
— Что?
— Это… это… je ne sais quoi…
От всей этой ерунды меня разбирает смех. Джеффри кажется, что на меня действует кокаин, и он начинает хихикать вместе со мной. От этого я хихикаю сильнее. Тогда и он начинает хихикать сильнее. Его смех еще больше заражает меня, и вот когда я уже не могу остановиться, он ласково говорит:
— А не лечь ли нам в постель?
Ага. Вопрос задан в лоб. Родившись на нудистском пляже, он долго вызревал и вот теперь, наконец, неизбежно возник, вдохновленный психоаналитическим сеансом. Итак, стартовый выстрел. Ну, понеслась!
— Думаю, не стоит.
— Почему?
— Ну, во-первых, мы подруги с твоей женой, во-вторых, ты играешь в теннис с моим мужем, а в-третьих, — угрызения совести замучают меня.
— Да мы только погладим друг друга по спине.
— А потом по животику и закончим актом любви… как с твоей русалкой.
— Не обязательно. Может, совесть будет мучить тебя гораздо меньше, если мы сделаем это друг другу ртом?
Я улыбаюсь ему. Именно этим занималась моя школьная подруга Пиа во время путешествия по Европе. Чтобы сохранить девственность и чистоту. Это, конечно, в меньшей степени обязывает, чем обычный секс.
— Или если воспользуемся любезно предложенной Гретхен коллекцией презервативов.
— Почему презервативов? Разве у тебя нет резинового колпачка?

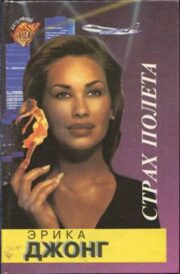
"Как спасти свою жизнь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Как спасти свою жизнь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Как спасти свою жизнь" друзьям в соцсетях.