Моя Гретхен — блондинка ростом пять футов восемь дюймов, с необъятным бюстом и похабным жаргоном, которая исповедует марксизм, феминизм и имеет слабость к музыке барокко. Года два назад, когда женское движение переживало подъем, мы с ней частенько строили планы, как бы завести какую-нибудь интрижку, но до дела у нас так и не дошло. На самом-то деле нам ничего такого не было нужно, нам просто казалась интересной сама идея. Поэтому, когда в Лондоне вышел мой роман, мы вместе поехали туда и провели там десять ужасных дней. Воспоминание не из приятных, зато мы сделали для себя вывод, что нам противопоказано путешествовать вдвоем. И в то же время эта поездка еще больше укрепила нашу дружбу. В глубине души я немного побаиваюсь Гретхен: меня пугает ее властный характер (она восходящий Лев), ее экстремизм, острый язык и потрясающе яркая внешность. В ней столько жизненной силы, что рядом с ней начинаешь чувствовать себя мертвецом. Она подавляет меня.
Однажды, когда я давала интервью какому-то лондонскому журналу для женщин, Гретхен сидела в углу и после каждого моего слова бросала: «Дерьмо собачье». В конце концов я не выдержала и сказала: «Это мое интервью, черт его подери!» — и, конечно, же, стерва-журналистка ничего лучшего не нашла, как вынести в заглавие именно эту фразу. Так возникла серьезная угроза нашей дружбе, но по какой-то неведомой мне причине она в конце концов устояла. Может быть, дело в том, что мы с Гретхен в чем-то очень схожи и очень друг другу нужны, ну хотя бы для того, чтобы спускать друг на друга собак. Я люблю ее (надеюсь, она меня тоже). Да и невозможно по-настоящему писать о человеке, которого не любишь. Даже если образ выходит карикатурным, а описание — язвительным из-за прошлых обид, все равно где-то должна скрываться любовь, иначе неоткуда взяться той мощной энергии, которая заставляет перо скользить по бумаге. А творчество требует энергии, причем гораздо большей, чем та, которой ты на первый взгляд обладаешь. Возникает она только из любви. Один любовный порыв — готово стихотворение, несколько — рассказ, а для романа требуется целая сотня порывов. Стихотворение (наверняка это уже сказал кто-то до меня) — это случайное свидание, рассказ — история любви, роман — замужество. Иногда начинаешь уставать от любви, и тогда страсть слабеет, но все равно она повсюду сопровождает тебя. Временами не можешь устоять перед соблазном и срываешься на одно-два стихотворения, случайный рассказ, но роман надежно сковывает тебя своими прочными цепями. Можешь, конечно, попытаться улизнуть, но ни к чему хорошему это чаще всего не ведет.
Офис Гретхен расположен в крохотном кабинетике без окон на Мэдисон-авеню в районе 60-х улиц, который замыкает анфиладу офисов более преуспевающего адвоката. Кабинет увешан политическими плакатами, стол завален делами клиентов и феминистскими брошюрами, на стене фотографии ее детей, а прямо у нее над столом — огромное изображение обнаженного мужчины. На картине в красивой раме нарисован голый негр, который прикрывает причинное место гигантским арбузом, усмехаясь дьявольской усмешкой. Сразу отметая возможные упреки в расизме, Гретхен говорит, что автор картины — негритянская художница из числа ее клиентов. Ее клиентам часто нечем платить, поэтому они дарят ей картины, пироги к Рождеству, собственные рукописи, а чаще всего — вообще ничего. Ей едва хватает на уплату аренды и жалованье секретарю, поэтому деньги для нее — больной вопрос.
Когда я вошла в кабинет, Гретхен сидела, закинув ноги на стол; перед ней были разложены документы какой-то многодетной мамаши, по телефону она что-то заинтересованно обсуждала со сторонницей легализации абортов.
— Ты жутко выглядишь. Присаживайся, — бросила она мне, не прерывая разговора.
У меня есть подозрение, что все телефонные разговоры, которые Гретхен ведет в моем присутствии, специально рассчитаны на меня. В ней вообще много театральности. Этакий Кларенс Дэрроу от феминизма в женском обличье.
— Конечно, он свинья. А ты думала, он Джон Стюарт Милль? — Тут следует смех, причем весьма заразительный. У Гретхен вообще потрясающий смех, очень радостный, наверное, из-за ее острого язычка. Без этого смеха она была бы просто чудовищем.
— Ты только подумай, этот подонок под видом врача проник в больницу и начал бросаться на женщин. Он изнасиловал пятерых, и никто даже не почесался, пока он не стал клеиться к белой. Тогда все и началось…
Я улыбаюсь Гретхен, ее дикому лексикону. Она широко улыбается в ответ.
— Ну, и что ты собираешься делать? Спустить все на тормозах? Послушай меня, через полгода он выйдет и снова примется за старое. Пристанет к тебе или ко мне. Я-то так ему врежу, что он и понять не успеет, в чем дело, сволочь проклятая! Ну ладно. Выясни там все и позвони. Хорошо, я знаю. Пока. — Она уже набирает новый номер.
— Алло! Миссис Браун? Вам придется зайти ко мне в контору и рассказать все подробно, чтобы мы могли накрыть этого сукина сына, хорошо? Вы знаете, где это? Подземкой доберетесь до 68-й улицы, а там пройдете три квартала к центру и два квартала на запад. У вас адрес есть? Ну хорошо. Завтра? Ладно; только если я буду на обеде, вы уж располагайтесь здесь и подождите немного. Хорошо, хорошо, пока.
Потом она обращается ко мне:
— Ты похожа на дом, в котором только что рухнула крыша. Что случилось, черт побери?
— Я ухожу от Беннета.
— Старая песня.
— На этот раз точно.
Гретхен смеется:
— Я не поверю в это до тех пор, пока ты не врежешь новый замок.
— Ты знаешь, что сделал этот сукин сын?
— Вступил в тонг? Забросил психоанализ? Завел себе мужчину? Может быть, поговорил наконец с тобой?
— Очень смешно. Да, поговорил, впервые за все восемь лет. И знаешь, что он мне сказал?
— Что он искусственный человек? Я давно это подозревала.
— Дура ты. Все эти годы у него была любовница. В Гейдельберге. И после. Лицемерная скотина! Ты помнишь, как он бесился из-за твоего «открытого» брака? Как он старался, чтобы мы обе чувствовали себя виноватыми за ту нашу поездку в Лондон? Так он встречался с ней даже в наше отсутствие, хотя мы ничего такого себе не позволяли.
Гретхен радостно гогочет:
— Я всегда удивлялась, почему ты так в нем уверена. Все они в глубине души свиньи, сама знаешь. Возьми хотя бы моего Алана, при том, что у него был такой неотразимый член и отработанные мужские рефлексы. Уж это как дважды два. Свиньи есть свиньи.
— Но Беннет никогда мне не лгал, всегда был откровенен со мной.
— Не был он никогда откровенен. Он как был, так и остался озлобленным и надутым занудой. Все они рано или поздно раскалываются. Ты тоже могла бы завести себе кого-нибудь, только не такого дурака, а человека, с которым было бы приятно провести время.
— Могла бы, — говорю я, глядя в пол, вот-вот готовая расплакаться.
— Слушай, тебе не в чем себя упрекнуть. И потом, ты теперь все знаешь, и у тебя нет больше иллюзий на этот счет. Он всегда считал себя страшно благородным, будто ты ему и в подметки не годишься. По крайней мере, можешь теперь расплеваться с этим дерьмом.
— Но чего мне все это стоило! А мое вечное чувство вины! О Господи!
— Знаю. Но ведь так лучше. Может, теперь ты наконец сможешь уйти от этого негодяя. И раз навсегда покончить со своим никчемным психоанализом.
— Не так уж он и плох. Даже чем-то мне помогает.
— Что ж ты тогда как потерянная? Носишься с этим фрейдистским хламом, как дурень с писаной торбой! Ни к чему он тебя не приведет. Ты вообще не сдвинешься с мертвой точки, пока ты замужем за этим истуканом.
— Знаешь, что меня убивает?
— Что?
— Понимаешь, я должна смотреть на него как на защитника, мне необходима иллюзия защищенности. Почему так происходит? Ведь все так живут, даже ты!
— Ну, я примирилась с неизбежностью, с необходимостью постоянно терпеть возле себя мужчин. Я никогда не стану лесбиянкой, но я, по крайней мере, не стелюсь перед ними, как ты.
Это задевает меня.
— И я не стелюсь.
— Дерьмо. Конечно, стелешься. Стоит только Беннету появиться, как ты тут же бросаешься ему угождать. Смотреть противно. Что он хорошего сделал для тебя? Пока ты не добилась успеха, смешивал тебя с дерьмом. А теперь-то, конечно, ты для него курица, несущая золотые яйца. Пылинки с тебя сдувает. «Женщина-писатель» и прочее дерьмо. Будто это какая-нибудь болезнь. Чем скорее ты избавишься от этого ублюдка, тем лучше. Хочешь, я начну готовить документы к бракоразводному процессу? Только мне кажется, ты еще окончательно не созрела.
Гретхен встает, потягивается, заправляет рубашку в джинсы и начинает строить рожи маленькому зеркальцу, стоящему на столе. Потом берет баночку с кремом от морщин и, втирая его в шею, обильно поливает себя «Росой юности» из флакона. Самая душистая марксистка в Нью-Йорке. Женщина, до такой степени благоухающая духами, без сомнения, покорит мир.
— Да я этого ублюдка просто ненавижу! Его нужно кастрировать, а не разводиться с ним. Развод — это слишком хорошо для него, — распаляюсь я.
— На себя злишься, детка, — ответствует Гретхен; в комнате повисает удушливый запах ее духов.
— Да, наверное, ты права. Не могу понять, почему я все-таки так цепляюсь за этот миф об отце и заступнике? Я просто схожу с ума. Как бы ни складывалась наша жизнь, каждый из нас бесконечно одинок, так зачем играть в прятки с самим собой? Не лучше ли с самого начала признать этот факт? Я просто придумала себе, что в моей жизни Беннет играет какую-то роль. Последние годы я сама обеспечиваю себя. И наша совместная жизнь никогда не доставляла мне особого удовольствия. Мои друзья ему в большинстве своем неприятны. Да мы с ним почти и не видимся. Детей у нас нет — так на что мне вообще все это нужно?
— Я думала, что он в сексуальном отношении ничего — хотя и это, конечно, не повод оставаться.

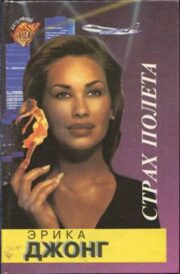
"Как спасти свою жизнь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Как спасти свою жизнь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Как спасти свою жизнь" друзьям в соцсетях.