Предполагалось дать сражение днем в лесу, граничащем с главной стоянкой неприятеля, и, чтобы покончить с ним, напасть ночью на Джидиам и поджечь деревню, которая вспыхнет при свете месяца, как аутодафе; а затем, пока еще не рассеялся дым пожарища, победоносно вернуться в Сен-Луи.
Накануне Жан написал родителям нежное письмо, которое в тот же день отправилось на «Фалеме». Как дорого оно будет старой матери… Незадолго до рассвета он поцеловал своего маленького сына, спящего на руках Фату-гей, и сел на лошадь.
XXIII
Фату-гей с ребенком тоже ушла с утра. Она пошла в Ниалумбаэ, деревню союзного племени, где жил один уважаемый марабу, известный своим даром пророчества.
Войдя в хижину столетнего старца, она увидела его распростертым на циновке и бормотавшим молитвы, точно в ожидании смертного часа. После долгих выяснений марабу дал девушке небольшой кожаный мешочек, по-видимому содержавший нечто ценное, так как она заботливо спрятала его в свой пояс. Марабу заставил малыша выпить снотворную настойку, и Фату-гей заплатила ему три серебряные монеты — последние khaliss спаги, которые старец положил в кошелек. Потом она с любовью завернула уже спавшего крепким сном сына в вышитый передник, привязала на спину драгоценную ношу и попросила указать дорогу к лесам, где вечером должны сражаться французы.
XXIV
Семь часов утра. Глухое место Диамбура. Неглубокое болото, заросшее крапивой. С северной стороны на горизонте виднеется невысокий пригорок. На юге — бесконечные поля Диалакара. Кругом безмолвная пустыня. На чистом небе спокойно восходит солнце.
Среди этого африканского пейзажа, напоминающего ландшафт необитаемых стран древней Галлии, показываются всадники. Как красивы они, скачущие в своих красных куртках, синих рейтузах и больших белых шапках, которые так идут к их загорелым лицам. Их двенадцать. Это двенадцать спаги, посланных в разведку под началом адъютанта, и среди них Жан.
Ничто не предвещает смерти и вечного покоя, разве только тишина да ясное небо. Болотная трава, еще влажная от ночной росы, сверкает на солнце; порхают стрекозы с большими пятнистыми крыльями; на воде открываются белые чашечки кувшинок.
Солнце уже жжет; лошадей мучает жажда, они вытягивают шеи, раздувая ноздри, и нюхают дремлющую воду. Спаги на минуту останавливаются и, посовещавшись, слезают на землю намочить шапки и освежить головы.
Вдруг вдали раздались глухие удары, как будто грохот огромных турецких барабанов.
— Большие тамтамы! — сказал сержант Мюллер, не раз видевший здешние войны.
И все инстинктивно бросились к лошадям. Но тут из болотной травы показалась черная голова; старый марабу сделал высохшей рукой какой-то знак, и на спаги посыпался град пуль.
Все выстрелы, спокойно и точно сделанные из засады, достигли цели. Пять или шесть лошадей были убиты; другие, обезумев от ужаса, поднялись на дыбы, скидывая раненых всадников; пораженный в спину Жан тоже свалился на землю. В это время из травы появилось тридцать зловещих голов, тридцать черных демонов, покрытых грязью, которые прошли, скрежеща белыми зубами, как разъяренные обезьяны.
О, геройская битва, достойная быть воспетой Гомером, она останется в безвестности, как многие другие битвы далекой Африки! Молодые, сильные, смелые спаги дорого продали свою жизнь. Но даже в Сен-Луи их забудут через несколько лет. Никто не вспомнит павших в Диамбуре на полях Диалакара.
Между тем грохот тамтамов приближался.
Спаги, как сквозь сон, увидели показавшуюся на холме многочисленную армию негров. Полуобнаженные воины, увешанные гри-гри, беспорядочной массой неслись к Диальде; с ними были огромные военные барабаны, которые едва волокли четверо. Легкие лошади пустыни, полные огня, в блестящей сбруе, с длинными гривами и хвостами, выкрашенными в кровавый цвет, летели точно бешеные. Шествие казалось фантастическим маршем демонов, африканским кошмаром, мчащимся, как ветер!
Это наступал Бубакар-Сегу. Он шел на французский отряд; шел, даже не обратив внимания на спаги, предоставляя покончить с ними сидевшим в засаде. А спаги оттесняли все дальше от воды — в бесплодные пески, туда, где томительный жар и ослепительный свет обессилят скорей. Ружей вторично не заряжали — бились ножами, саблями, ногтями и зубами; зияли большие раны и окровавленные внутренности.
Два негра с остервенением набросились на Жана. Он был сильнее и отбрасывал их, яростно защищаясь, но они снова нападали. Скоро он уже не в силах был отбиваться, его окровавленные руки бессильно скользили по голой коже, он ослабел от ран.
Перед его глазами, как в тумане, проплыли неясные образы: упавшие рядом товарищи и все еще бегущая негритянская армия, готовая скрыться из глаз, хрипящий рядом красавец Мюллер, у которого течет кровь изо рта, а там вдали среди негров высокий Ниаор саблей пробивает себе дорогу к Сальде.
Но вот трое негров навалились на Жана, опрокинули на землю, держа за руки, и один из них вонзил ему в грудь большой железный нож. Страшная минута — Жан почувствовал, как нож вонзается в его тело. И некому помочь, все пали, рядом никого! Красное сукно куртки и грубое полотно солдатской рубашки не поддавались — нож был плохо заточен. Негр налег, Жан испустил громкий хриплый крик, в его груди что-то хрустнуло. С ужасным скрипом лезвие проникло в грудь; его повернули, потом выдернули двумя руками и оттолкнули тело ногой…
Он был последним. Испуская победные крики, черные демоны отправились своей дорогой; через минуту они уже мчались, как ветер, догоняя свою армию. Спаги оставили одних, и наступило спокойствие смерти.
XXV
Столкновение двух армий произошло позднее; оно было жестоким, хотя и не наделало большого шума во Франции. Эти сражения горстки людей в далекой стране проходят незамеченными, память о них живет лишь у тех, у кого они отняли сына или брата. Силы небольшого французского отряда слабели, когда Бубакар-Сегу получил почти в упор полный заряд дроби в правый висок. Мозг короля негров брызнул из черепа; он упал среди своих слуг под звуки труб и железных кимвалов, путаясь в длинных лентах амулетов, и его смерть была сигналом к отступлению. Негрская армия устремилась в непроходимые дебри, в глубь страны, и ей не препятствовали — французы уже не могли ее преследовать.
В Сен-Луи доставили красную головную повязку непобедимого вождя — она вся была обожжена, продырявлена картечью и увешана амулетами — вышитыми мешочками с таинственным порошком, кабалистическими знаками и молитвами на языке Магреба. Его смерть потрясла туземное население. Следствием сражения была покорность большинства мятежных вождей, что свидетельствовало о победе.
Отряд поспешно вернулся в Сен-Луи, все участвующие получили повышения и награды, но ряды спаги сильно поредели.
XXVI
Жан дополз до тамарисков, нашел под их легкой листвой тенистое место и лег, ожидая смерти. Его мучила жажда, во рту пересохло, и легкие спазмы начали сжимать горло. В Африке он не раз видел, как умирали его товарищи; и знал этот зловещий признак конца, который называется в народе предсмертной икотой. Из раны текла кровь, и сухой песок впитывал ее, как росу. Ему стало легче, и, если бы не жажда, от которой горело внутри, он бы почти ничего не чувствовал.
Чудные видения вставали перед спаги: цепь Севенн, далекие родные места и его дом на горе. Тенистые леса, зеленый мох и вода… А вот его дорогая старушка-мать, она тихонько поднимает его и ведет за руку, как ребенка.
О, ласка матери! О, мать, гладящая слабыми старческими руками его лоб и освежающая водой пылающую голову. Ах нет, он никогда больше не увидит матери, не услышит ее голоса. Никогда! Что это, конец? Один, совсем один умирает он под солнцем пустыни! И, не желая умирать, он приподнялся.
— Тжан!.. иди в хоровод!
Перед ним, как ураган, как вихрь яростной бури, пронесся рой призраков. От их легкого прикосновения на раскаленном песке засверкали искры. Воздушные танцоры поднялись по спирали ввысь и, как дым на ветру, растаяли в голубом эфире.
Жан почувствовал, что могучие крылья поднимают его, влекут вслед за ними, и подумал, что умирает. Но это была лишь мышечная судорога, новый приступ жестокой боли.
Струя розовой крови хлынула из горла, и кто-то шепнул в самое ухо:
— Тжан!.. иди в хоровод!..
Им овладел покой, и, почти не ощущая боли, он снова опустился на песчаное ложе.
С изумительной ясностью промелькнули перед ним картины далекого детства. Он услышал знакомую песню, которой мать убаюкивала его в колыбели, и вдруг деревенский колокол громко зазвучал в пустыне к вечернему Angelus. По его смуглым щекам полились слезы, и солдат с детским жаром стал повторять забытые молитвы, потом взял надетый матерью образок Св. Девы и с бесконечной любовью прижался к нему губами. Молитва, льющаяся из его души, была та же, что шептала по вечерам его наивная мать. Озаренный последней надеждой, он громко повторял эти вечные слова: «мы встретимся на небе», и его голос замирал в гнетущем молчании пустыни.
Было уже около полудня. Жан страдал все меньше — раскаленная солнцем пустыня казалась огромной пылающей печью, но ее жара он даже не чувствовал. Высоко поднималась грудь, точно для того, чтобы вдохнуть больше воздуха; рот открылся, как бы прося воды. Но вот зной притупил его сознание, в последний раз широко открылся рот, и Жан умер.
XXVII
Когда Фату-гей вернулась от марабу с таинственным мешочком, женщины союзного племени рассказали ей, что сражение уже кончилось. Запыхавшаяся и усталая, она бросилась в лагерь, неся на спине завернутого в синий лоскут спящего ребенка. Первым, кого она увидела, был мусульманин Ниаор. Он перебирал амулеты и взглянул на нее мрачно.

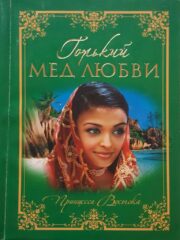
"История спаги" отзывы
Отзывы читателей о книге "История спаги". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "История спаги" друзьям в соцсетях.