Между казармами, флотом и губернаторским домом ежедневно шла оживленная переписка. К спаги приходили большие пакеты с печатями и разжигали воображение людей в красных мундирах — они предвещали большую и серьезную экспедицию. Спаги точили свои боевые сабли и чистили амуницию со стаканами абсента в руках, шутя и весело болтая.
V
Были первые числа октября. Жан, с утра разносивший по разным местам служебные бумаги, шел с большим официальным пакетом по последнему адресу, во дворец губернатора. На длинной узкой улице, залитой солнечным светом, пустынной и мертвой, как улица Фив или Мемфиса, он увидел идущего навстречу человека, тоже в красном, который издали показывал ему письмо. Жан встревожился и ускорил шаг.
Это был сержант Мюллер, доставлявший спаги французскую почту, он прибыл час назад с караваном из Дакара.
— Тебе, Пейраль, — сказал он, протягивая Жану конверт со штемпелем его бедной дорогой родины.
VI
Это письмо, которого Жан ждал целый месяц, жгло ему руки; но он не торопился его читать и наконец, выполнив все поручения, решил распечатать. Он подошел к решетке Управления и вошел в открытые ворота.
В саду было так же тихо, как и на улице. Ручная львица нежилась, как кошка, растянувшись на солнце. Под суровыми голубоватыми алоэ спали страусы. Полдень — могильная тишина, кругом ни души; на большие белые террасы легли недвижные тени желтых пальм.
Ища, кому передать пакет, Жан дошел до конторы, где увидел губернатора, окруженного высокопоставленными лицами колонии. В этот час полуденного отдыха здесь царило необычайное оживление; казалось, обсуждались вопросы величайшей важности.
Взамен принесенного Жаном пакета ему вручили другой, на имя командира спаги. Это был приказ к немедленному выступлению, который после полудня был официально объявлен по всем войскам Сен-Луи.
VII
Когда Жан снова очутился на пустынной улице, он не вытерпел и трясущимися руками распечатал письмо. На этот раз оно было написано только матерью; рука ее дрожала сильнее, чем когда-нибудь, и бумага носила следы слез. Бедный спаги с жадностью пробежал его, и, когда кончил, у него потемнело в глазах, — прислонившись к стене, он схватился за голову. Приказ, врученный ему губернатором, был срочным; он благоговейно поцеловал имя старой Франсуазы и, шатаясь как пьяный, поплелся дальше.
Возможно ли? Все кончено, кончено навсегда! У него отняли невесту, с детства предназначенную ему родителями!
«Оглашение уже было; свадьба назначена через месяц. До последних дней я все еще сомневалась, сын мой; Жанна не навещала нас больше, а я не смела сообщить тебе, из боязни причинить страдания, так как мы бессильны что-то изменить. Мы в отчаянии. Вчера Пейралю пришла в голову мысль, о которой нам страшно вспомнить. Мы боимся, что ты не захочешь вернуться на родину и останешься в Африке.
Мы оба уже стары; Жан, дорогой мой сын, твоя старая мать умоляет тебя на коленях быть благоразумным. Если ты не вернешься к тому времени, когда мы тебя ждем, нам лучше умереть теперь же».
Несвязные, беспорядочные мысли теснились в голове Жана. Он стал считать дни… Нет, это еще не конец, еще есть время. Телеграф! Хотя, нет, о чем он думает! Между Сенегамбией и Францией телеграфа не существует. И что еще он мог им сказать? Если б он мог бросить все и уехать, умчаться на быстроходном судне, поспеть вовремя. Бросившись к их ногам, он умолял бы их со слезами, и они бы, наверное, смягчились. Но это так далеко… невозможно, ничего не выйдет! Все совершится раньше, чем до них долетит его вопль отчаяния.
Ему показалось, что железные руки сдавили его голову и страшными тисками стиснули грудь. Он остановился было, чтоб перечесть, но, вспомнив о срочном приказе губернатора, сложил письмо и пошел дальше.
Кругом царило великое спокойствие полдня. Ветхие мавританские дома молочными полосами белели на темной синеве неба. Порой из-за каменной стены до слуха долетала заунывная, жалобная песня негритянки; голые черные негритята в коралловых ожерельях спали у дверей, выставив животы на солнце, и казались темными пятнами среди ослепительного света. Ящерицы сновали под ногами, забавно вертя головами и чертя хвостами фантастические зигзаги, напоминавшие арабскую живопись. Далекий стук колотушек — созывают на кус-кус — однообразный, как сама тишина, несся с Гет-н’дара и замирал в тяжелой знойной атмосфере полдня…
Спокойствие спящей природы так не соответствовало возбуждению бедного Жана, что он еще сильнее чувствовал свое горе; оно обессиливало его, как физическая боль, и стесняло дыхание, как свинцовый саван. Эта страна представилась ему огромной могилой. Как будто он очнулся от тяжелого пятилетнего сна. Его переполняло возмущение — бунт против всех и вся!.. Зачем оторвали его от родной деревни, от матери и загубили его молодость в этой стране смерти?! По какому праву его превратили в спаги, сделали наполовину африканцем, несчастным отщепенцем, забытым всеми, и, наконец, отняли невесту!..
Им овладела бешеная ярость, но не было слез. Ему требовалось излить ее на кого- или что-нибудь — мучить, душить и убивать подобных себе… Но кругом ни души — тишина, зной и песок.
Увы, в этой стране у него ни друга, ни товарища, с кем можно поделиться горем. Боже мой, какое одиночество!.. совсем один на свете!..
VIII
Жан добежал до казарм и бросил первому попавшемуся доверенный ему пакет, потом вышел и быстро зашагал куда глаза глядят, чтобы успокоиться. Он прошел Гет-н’дарский мост и свернул к югу по направлению к Берберии, как в ту ночь, когда четыре года назад он в отчаянии покинул дом Коры… Но в этот раз его гнало прочь самое глубокое и сильное отчаяние, на какое способен мужчина, — отчаяние разбитой жизни…
Он долго шел к югу, и, когда Сен-Луи и негритянские деревни скрылись из вида, сел, обессилев, у подножия возвышающегося над морем песчаного холма. Мысли путались у него в голове, палящее солнце сводило с ума…
Он понял, что никогда еще не был здесь, и стал рассеянно осматриваться.
На холме теснились друг к другу большие столбы, испещренные надписями на языке священников Магреба. В тени белели груды вырытых шакалами костей, меж ними пробивалось несколько веток молодой зелени, точно случайно здесь забытые. Среди бесплодного запустения через старые черепа пробирался вьюнок, обвивая мертвые руки и ноги и покрывая их розовыми цветами…
Кое-где над равниной поднимались мрачные могильные курганы. Розово-белые пеликаны стаями прогуливались по берегу, их четкие очертания в сумеречном свете издали казались сверхъестественно огромными…
Наступил вечер, солнце спустилось за океан, от воды повеяло свежестью…
Жан достал письмо матери и стал перечитывать…
«…Вчера Пейралю пришла в голову мысль, о которой нам страшно вспомнить. Мы боимся, что ты не захочешь вернуться на родину и останешься в Африке.
Мы оба уже стары; Жан, дорогой мой сын, твоя старая мать умоляет тебя на коленях быть благоразумным. Если ты не вернешься к тому времени, когда мы тебя ждем, нам лучше умереть теперь же».
Бедный Жан почувствовал, как сжалось его сердце, грудь сотрясли рыдания, и все его негодование вылилось в слезах…
IX
Через два дня все суда эскадры, участвующие в экспедиции, уже стояли в северной части Сен-Луи у Поп-н’киора, где река делает поворот.
Войска размещались на судах при большом стечении народа и суматохе. Все черное население, все женщины и дети высыпали на берег и исступленно кричали. Тут же были караваны мавров, прибывшие из Судана, со своими верблюдами, кожаными мерами, ворохами экзотического скарба и прекрасными молодыми женщинами.
Около трех часов эскадра, направлявшаяся вверх по реке до Диальде, под палящим солнцем тронулась в путь и уплыла со своим живым грузом.
X
Сен-Луи исчезал из глаз… Его четкие очертания тускнели и сливались с золотыми песками. Вокруг, до самого горизонта, простиралась огромная безжизненная равнина — вечно горячая, вечно печальная пустыня… И это только край великой, забытой Богом страны — преддверие великих африканских пустынь…
Жана, вместе с остальными спаги, посадили на «Фалеме», которая плыла во главе эскадры и вскоре должна была уйти вперед. Перед отъездом он наскоро ответил старой Франсуазе. Подумав, Жан решил не писать невесте, но в письмо к матери вложил всю свою душу, чтобы утешить ее и обнадежить.
«…Она была для нас слишком богата, — писал он. — Найдется другая девушка, которая мне не откажет; мы поселимся в нашем старом доме и, таким образом, будем к вам еще ближе… Дорогие мои, я мечтаю только об одном — увидеться с вами. До моего возвращения еще три месяца, и я клянусь, что никогда вас больше не покину…»
Он действительно так решил и все время только и думал о горячо любимых стариках… Но он не мог соединить свою судьбу с другой девушкой, — при этой мысли все для него меркло, она его ужасала и набрасывала густой траурный покров на его будущее… Он не мог подавить тоски, ему казалось, что жизнь бессмысленна и будущее мрачно…
Рядом, на палубе «Фалеме», сидел гигант Ниаор, черный спаги, которому он как лучшему другу доверил свое горе. Ниаор, которого никто никогда не любил, не разделял его чувства — в его доме под соломенной крышей жили три женщины, и он рассчитывал их продать, когда они перестанут ему нравиться. Но все же он понял, что друг его Жан несчастлив. Ниаор ласково улыбался ему и, чтобы развлечь, сочинял негритянские сказки, от которых клонило ко сну.

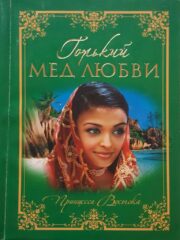
"История спаги" отзывы
Отзывы читателей о книге "История спаги". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "История спаги" друзьям в соцсетях.