Написав, она тоже подняла голову.
– Все, закончили, бабушка Моан?
Девушка была молода, очень молода — лет двадцати. С серыми, цвета льняного полотна, глазами и почти черными ресницами и совсем светленькая, что являлось редкостью в этом уголке Бретани, где люди сплошь черноволосы. Ее брови, такие же светлые, как и волосы, но с более темным, рыжеватым оттенком, придавали лицу сосредоточенное и волевое выражение. Профиль был чуть коротковат, но весьма благороден, линия носа абсолютно правильно продолжала линию лба, как у греческих скульптур. Глубокая ямочка подбородка изумительным образом подчеркивала контур рта, а когда какие-нибудь мысли слишком занимали ум девушки, она покусывала нижнюю губку, и тогда на нежной коже появлялись красноватые следы. Во всей ее стройной фигуре присутствовали достоинство и серьезность, шедшие от предков — отважных исландских моряков. В глазах читались одновременно кротость и настойчивость.
Ее чепец, по форме напоминавший ракушку, был надвинут низко на лоб, плотно обтягивал его, точно лента, а поднятые боковинки открывали взору толстые косы, кольцами уложенные над ушами, — такая прическа, сохранившаяся с давних времен, придает пемпольским женщинам какой-то старинный облик.
Судя по всему, девушка выросла в иной среде, нежели та, в какой жила бедная старушка, познавшая в жизни много несчастий. «Бабушка» в действительности доводилась всего лишь дальней родственницей писавшей, дочери месье Мевеля, старого рыбака, промышлявшего иногда пиратством и обогатившегося на этом.
В красивой девичьей комнате, где сочинялось послание, стояла совсем новая, по городской моде, кровать с муслиновым пологом и кружевной каймой; светлые обои толстых стен частично скрывали неровности гранита, а мощные потолочные балки, побеленные известью, свидетельствовали, что дом выстроен давным-давно. Это было типичное жилище зажиточных горожан, окна которого выходили на старую площадь Пемполя, где устраивались торжища и проходил праздник Прощения.[6]
– Так мы закончили, бабушка Ивонна? Больше ничего не хотите сообщить?
– Нет, детка, разве что прибавь от меня, пожалуйста, привет Гаосу-сыну.
Гаос-сын!.. Иначе говоря, Янн… Гордая красавица густо покраснела, когда выводила это имя. Беглым почерком она сделала внизу страницы приписку и тотчас встала, повернув голову к окну, будто желая рассмотреть что-то любопытное на площади.
Стоя она казалась чуть высоковатой. Ее фигуру, как у модницы, облегал ладно пригнанный корсаж без единой складки. То, что перед нами барышня, а не какая-нибудь крестьянка, не мог скрыть ни чепец, ни даже руки, отнюдь не маленькие и не слабые, но зато белые и изящные, явно не знакомые с тяжелой работой.
В детстве наша красавица была просто малышкой Го,[7] шлепающей босыми ножками по воде. Очень рано лишившаяся матери, она во время путины, когда отец находился у берегов Исландии, оставалась дома почти одна. Хорошенькая, розовощекая, со взъерошенными волосенками, своенравная, упрямая, девчушка росла крепкой, закаленной суровым дыханием Ла-Манша. В это время ее взяла к себе бедная старушка Моан присматривать за Сильвестром — пемпольцы дни напролет проводили в тяжелых трудах и заботах.
Го, эта маленькая мама, обожала доверенного ей малыша — темноволосого, тогда как она была блондинкой, послушного и ласкового, в отличие от нее самой — непоседливой и капризной. А разница между детьми составляла всего-то полтора года.
Она вспоминала начало своей жизни как человек, которого не опьянили ни богатство, ни пребывание в дальних краях; детство всплывало в памяти как давний сон о дикой свободе, оживало картинами смутного и таинственного времени, когда песчаные пляжи были гораздо обширнее, а скалы гораздо выше…
Ей было пять или шесть лет, когда у отца, занявшегося скупкой и перепродажей корабельных грузов, появились деньги и он увез ее в Сен-Бриё, а затем в Париж. Там малышка Го постепенно превратилась в мадемуазель Маргариту — взрослую серьезную девушку со строгим взглядом. По-прежнему часто предоставленная самой себе, пребывая в ином, нежели на песчаных бретонских пляжах, одиночестве, она сохранила нрав упрямого ребенка. Знание жизни открылось ей невзначай и отнюдь не было плодом здравых размышлений; однако врожденное и слишком сильное чувство собственного достоинства оберегало ее. Порой на нее находила смелость, и она говорила людям напрямик все, что думала, чем немало удивляла их. Взгляд ее красивых светлых глаз никогда не опускался под взглядом особ противоположного пола, но был при этом столь добродетелен и безразличен, что мужчины вряд ли могли впасть в заблуждение: они сразу прекрасно понимали, что имеют дело с девушкой скромной, чистой душой и телом.
Жизнь в больших городах изменила скорее ее облик, нежели ее саму. Она быстро научилась одеваться на новый манер, хотя по-прежнему носила чепец, с которым бретонки нелегко расстаются. Ничем прежде не скованная фигура маленькой рыбачки, развиваясь, вступала в пору расцвета; дивные формы, охватываемые прежде только морским ветром, теперь приобрели полную законченность в длинном девичьем корсете.
Каждый год, но только летом, словно курортница, она приезжала с отцом в Бретань, возвращаясь на несколько дней к детским воспоминаниям и вновь обретая имя Го. Исландцы, о которых так много говорили, возбуждали в ней любопытство: их вечно не было дома и каждый год кто-то исчезал навсегда. Девушка повсюду только и слышала что разговоры об Исландии, представлявшейся ей какой-то страшной бездной, бездной, где находился тот, кого она любила…
А в один прекрасный день ее привезли насовсем — из прихоти отца, пожелавшего здесь закончить свое земное существование, а до той поры пожить в довольстве на площади в центре Пемполя.
Когда письмо было перечитано и уложено в конверт, славная старушка, бедная, но опрятная, поблагодарив Го, отправилась домой — на самую окраину Плубазланека, в деревушку на берегу моря, где когда-то родилась, где позднее в ветхой хижине родились ее сыновья и внуки.
Идя по городу, бабушка Моан, старожилка этих мест, осколок крепкого и уважаемого семейства, часто отвечала на приветствия людей, желавших ей доброго вечера. В округе к ней относились с большим почтением.
Проявляя чудеса заботливости и аккуратности, пожилая женщина умудрялась выглядеть почти хорошо одетой, имея лишь бедные, штопаные-перештопаные платья. Нарядной одеждой служила ей традиционная у пемпольских женщин маленькая темная шаль, на которую вот уже шестьдесят лет ложился муслин ее огромных чепцов. В этой шали, когда-то голубой, она выходила замуж, в ней же, только перекроенной, женила сына Пьера. Далеко не новая, но все еще имеющая вид вещь и по сию пору верно служила своей хозяйке в праздники и воскресенья.
При ходьбе старушка держалась не по возрасту прямо. Люди находили ее красивой: добрые глаза и тонкий профиль делали незаметным торчащий подбородок.
Она прошла мимо дома своего давнего ухажера, старого воздыхателя, столяра по профессии. Восьмидесятилетний старик теперь неизменно сидел у порога, в то время как его молодые сыновья строгали за верстаками. Поговаривали, будто он так и остался безутешен, оттого что избранница не пожелала выйти за него замуж ни в первый, ни во второй раз; однако с возрастом разочарование уступило место комичному и вместе с тем едкому злопамятству.
– Ну что, красавица, — всегда окликал он ее, — когда мерки-то будем снимать?..
Она благодарила и отвечала, что этот костюмчик пока себе делать не собирается. Старик, понятно, намекал на наряд из еловых досок.
– Ну как знаете, красавица, однако, ежели что, не стесняйтесь…
Он уже не в первый раз отпускал по ее адресу эту грубоватую шутку. Но сегодня она лишь едва улыбнулась в ответ, поскольку чувствовала себя как никогда разбитой, уставшей от жизни — жизни, полной непрестанного тяжкого труда… И еще покоя не давали мысли о дорогом внуке — последней оставшейся у нее дорогой душе, — который придет из плавания и отправится на военную службу. Пять лет!.. А вдруг его пошлют в Китай, на войну!.. Тоска теснила ее грудь. Нет, эта бедная старушка вовсе не была такой уж веселой, как могло показаться на первый взгляд; черты ее страшно исказились, казалось, она вот-вот разрыдается.
Возможно ли, правда ли, что скоро у нее заберут последнего внука?.. Умереть в полном одиночестве, не повидавшись с ним… Знакомые в городе предприняли кое-какие шаги, чтобы Сильвестра как единственного кормильца почти неимущей и нетрудоспособной старухи не взяли в армию. Но сделать ничего не удалось — из-за другого внука, дезертира, Жана Моана, старшего брата Сильвестра, своим поступком лишившего брата младшего права на освобождение от воинской службы. (Об этом в семье никогда не говорили, меж тем бежавший жил где-то в Америке.) Кроме того, ходатаям ответили, что старушка получает небольшую пенсию как вдова моряка — иными словами, ее не сочли совсем уж бедной.
Вернувшись домой, она долго молилась сначала за всех своих покойников — сыновей и внуков; потом с особым пылом — за Сильвестра и только затем попыталась уснуть. Из головы не шел наряд из досок, старое сердце сжимала грусть: внук уезжает…
Что до девушки, то она осталась сидеть у окна, глядя на желтые отблески заходящего солнца, освещавшие гранитные стены, на кружащихся в небе черных ласточек. Даже по воскресеньям Пемполь по-прежнему точно вымирал в эти долгие майские вечера; молодые девушки за отсутствием ухажеров прогуливались по двое, по трое, мечтая о возвращении своих поклонников…
«…Привет от меня Гаосу-сыну…» Она очень волновалась, когда писала эти слова и в особенности имя, которое теперь лишало ее покоя.
Она часто проводила целые вечера, сидя у окна, точно благородная барышня. Отцу не очень-то нравилось, когда Го гуляла со сверстницами, некогда бывшими ей ровней. Выйдя из кофейни с трубкой во рту и прогуливаясь со старыми приятелями-моряками, он испытывал удовлетворение оттого, что видел дочь там, наверху, в обрамленном гранитом и уставленном цветами окне богатого дома.

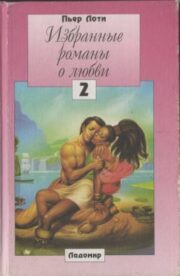
"Исландский рыбак" отзывы
Отзывы читателей о книге "Исландский рыбак". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Исландский рыбак" друзьям в соцсетях.