Когда в четыре часа утра, смертельно уставшая, она вернулась домой и бросилась на постель, сон на мгновение овладел ею.
Но вскоре Го проснулась, будто от какого-то толчка. Вспомнив что-то, она приподнялась на постели… Опять что-то, касающееся Янна… Среди путаницы бродивших в ее голове мыслей она торопливо искала, что это было… «Ах нет, это Фантек…»
Она вторично провалилась в ту же пропасть мрачного и безнадежного ожидания.
И все же что-то исходящее от него витало вокруг. В Бретани это называют предзнаменованием. И Го еще более внимательно стала вслушиваться в звуки шагов снаружи, предчувствуя, что, быть может, придет кто-то и расскажет о нем.
И действительно, когда рассвело, пришел отец Янна. Сняв шапку, он поправил свои красивые седые волосы, кудрявые, как и у сына, и сел возле кровати Го.
Его сердце тоже было охвачено тревогой, ведь Янн, его прекрасный Янн, был старшим, его любимцем, его гордостью. Но он не отчаивался, в самом деле, все еще не отчаивался. Он принялся очень мягко ободрять Го: во-первых, последние вернувшиеся из Исландии рыбаки все как один говорят о густых туманах, которые могли задержать судно, и еще ему пришла в голову мысль: что, если они сделали остановку у Фарерских островов? Острова отдаленные, но лежат на пути рыбаков, и письма оттуда идут очень долго. С ним самим такое случалось, лет сорок назад, и его бедная покойная мать уже заказала отслужить мессу за упокой его души… Такое хорошее судно «Леопольдина», почти новенькое, и такие крепкие моряки…
Старая Моан ходила вокруг них, кивая головой; тоска ее внучки почти вернула ей силы и разум. Она хлопотала по хозяйству, время от времени глядя на маленький пожелтевший портрет ее Сильвестра на гранитной стене, с морскими якорями, в траурном венке из черного жемчуга. Нет, с тех пор как моряцкое ремесло отняло у нее внука, она уже не верила в возвращение моряков, и теперь молила Богоматерь разве что из страха, еле шевеля сухими губами и тая обиду в сердце.
Но Го жадно внимала словам утешения, ее большие, в темных кругах глаза с большой нежностью смотрели на старика, который напоминал ей любимого. Его присутствие здесь, рядом, — это защита от смерти; она чувствовала себя спокойнее и ближе к Янну. Слезы капали из ее глаз, тихие и мягкие, и она повторяла про себя пылкие молитвы, обращенные к Богоматери Звезде Морей.
Стоянка там, на далеких островах, из-за какой-нибудь поломки — это ведь в самом деле возможно! Она поднялась, пригладила волосы, немного привела себя в порядок, словно он вот-вот мог вернуться. Ну конечно, не все еще потеряно, ведь его отец не отчаивается! И она вновь принялась ждать.
Стояла осень, поздняя осень, на землю спускались мрачные ночи, даже рано утром в старом доме было темным-темно, так темно было и во всем старом бретонском краю.
Дни больше напоминали сумерки; из-за огромных, медленно плывущих туч внезапно становилось темно в полдень. Слышался неумолчный шум ветра, словно где-то далеко большие церковные органы играли мотивы злобы и отчаяния. Иной раз ветер подбирался прямо к двери дома и принимался рычать, точно зверь.
Она сделалась совсем бледной и все больше слабела, будто старость уже коснулась ее своим крылом. Часто она доставала вещи Янна, его красивую свадебную одежду, раскладывала ее и вновь складывала, точно одержимая, в особенности один из его шерстяных тельников, сохранивший форму его тела; когда она осторожно клала его на стол, сами собой вырисовывались плечи и грудь Янна. В конце концов она убрала тельник в шкаф на отдельную полку и решила больше не трогать, чтобы любимый силуэт сохранился подольше.
Каждый вечер холодные туманы поднимались с земли, Го смотрела в окно на печальную равнину. Из печных труб рыбацких домов курились белые дымки. Везде, где мужчины, точно странствующие птицы, гонимые холодом, вернулись, вечера у очагов обещали быть тихими и приятными. Зимой всюду возрождалась любовь в этом краю рыбаков.
Ухватившись за идею об островах, где Янн мог остановиться, она, обретя что-то вроде надежды, вновь принялась ждать…
Он не вернулся.
Августовской ночью, там, в мрачных исландских водах, среди яростного грохота была отпразднована его свадьба с морем.
С морем, которое прежде кормило его, баюкало, сделало сильным и рослым парнем, а потом взяло к себе. Глубокой тайной была окутана эта страшная свадьба. Темные паруса метались над водой, точно бьющийся на ветру занавес, повешенный, чтобы скрыть празднество. Море голосило, неистово грохотало, заглушая людские крики. Он, вспоминая о Го, защищался в этой гигантской схватке. До той минуты, пока силы не оставили его. Страшный крик, похожий на рев быка, вырвался из его нутра, рот наполнился водой, простертые руки застыли навсегда.
И на свадьбе этой присутствовали все, кого он когда-то пригласил. Все, кроме Сильвестра, спящего в дивном саду, далеко-далеко, на другом краю земли…
ПРОСТРАНСТВО ЖИЗНИ И СМЕРТИ ПЬЕРА ЛОТИ
Лоти — псевдоним французского писателя Луи Мари Жюльена Вио. Этим именем цветка, растущего на островах Океании, Лоти нарекли 25 января 1872 года грациозные фрейлины таитянской царицы Помаре. Высказывалось предположение, что «лота» — офранцуженное маорийское слово «роза».[62] Позднее писатель увидел в нем аллегорию хрупкой и недолговечной красоты и одновременно — ключ к своей судьбе, творческой и человеческой.
Пьер Лоти родился 14 января 1850 года в протестантской семье на западе Франции, в городе Рошфор-сюр-Мер (департамент Приморская Шаранта). Его отец, уроженец Рошфора, старинного французского порта, двадцати одного года от роду влюбился в мадемуазель Надин Тексье, дочь чиновника морского ведомства (родословная которой восходила к мадам де Ментенон), да так серьезно, что перешел ради нее в протестантство. Словом, родители будущего писателя заключили брак по любви. С детства обласканный матерью, тетушкой Клер и старшей сестрой Мари, Жюльен и от большого мира ждал таких же бескорыстных излияний женской любви, нежности и преданности. И вместе с тем мир рисовался ему, потомку мореплавателей, безбрежным океаном — стихией не только манящей и завораживающей, но коварной и гибельной. В автобиографическом «Романе одного ребенка» Лоти поведает о первом, мистическом, опыте узнавания протеинового чудовища — моря: «Передо мной возникло что-то темное и шумящее, выступившее разом отовсюду и казавшееся бесконечным, — зыбкое пространство, вызвавшее смертельное головокружение…
Это могло быть только оно; ни минуты сомнения или удивления, что оно именно такое; я узнал его и затрепетал. Оно было темно-зеленого, почта черного цвета; оно казалось неустойчивым, коварным, всепоглощающим: оно металось и билось мрачно и злобно. Над ним простиралось небо ровного темно-серого цвета, как тяжелый плащ. […] Чтобы так узнать море, я должен был видеть его раньше…
С минуту мы стояли друг против друга, я — прикованный к нему. Несомненно, в эту первую встречу меня охватило неотвратимое предчувствие, что наступит день, когда оно заберет меня, несмотря на все колебания, на все попытки избежать уготованной мне участи…»
Дав Жюльену домашнее образование, включавшее латинский, английский, а позднее — греческий, родители отправили двенадцатилетнего мальчика в коллеж Рошфора, где он сразу же почувствовал себя одиноким и несчастным: с товарищами не сошелся, учился из-под палки (как ни странно, главные нарекания вызывали его школьные сочинения), читал медленно и вяло, потратив на фенелоновского «Телемаха» целое лето. Воспитанный в суровом протестантском духе (вечера в семье завершались чтением вслух Библии, а по утрам маленький Жюльен самостоятельно прочитывал несколько страниц Священного писания), он хотел поначалу стать пастором и миссионером, однако, познакомившись с философией Огюста Конта, которая в то время активно внедрялась в школьные программы, отказался от первоначального намерения. Позитивизм, неприятно поразив его своей сухостью, тем не менее «глубоко уязвил» его «христианский мистицизм», признается позднее Лоти в книге воспоминаний «Ранняя молодость».
Судьба напомнила о себе, как это нередко бывает, с неожиданной стороны. Двоюродный дедушка Жюльена, Анри Тайан, многие годы проживший на побережье Африки, разбередил душу внука рассказами об экзотических странах Африканского континента. В домашней библиотеке Лоти в Рошфоре сохранилась книга Э. Деллессера и П. А. Франка «Путешествие через два океана» (1848) с черно-белыми иллюстрациями, раскрашенными рукой Жюльена. В «Романе одного "ребенка» Лоти вспоминает о не покидавшем его страхе состариться, запутавшись, как большинство людей, в невидимой глазу паутине повседневности, в труде, пусть нужном и полезном, но монотонном и отупляющем, закрытом для озарений и творческих перерождений. «Боюсь, мне будет очень скучно, когда я вырасту».
Когда же старший брат Жюльена, судовой врач, стал присылать из Полинезии письма, а вернувшись из плавания, засыпал домашних сувенирами и рассказами об увиденном, Жюльен принял окончательное решение стать моряком. Подобно Рамунчо, герою одноименного романа Лоти, его часто охватывало «смутное желание чего-то иного», стремление «вырваться хоть на время за пределы своей страны», которую между тем он так любил, освободиться «от гнета однообразного и безысходного существования». Но и вырвавшемуся из плена европейской цивилизации Лоти («Женитьба Лоти») не дано было пережить обновления даже на Таити. В этом райском уголке земли он ощущает себя «посторонним», чуждым сказочной природе и непостижимой культуре: «Как ни ищи, ни лови, ни пытайся выразить — тщетно! Что-то так и остается неуловимым и непонятным…» Когда же приходит пора покинуть эти с таким трудом обжитые душою места, Лоти не в силах сдержать слез: он привязался к острову и его окрестностям, обрел в них вторую родину.
Так уже в отрочестве закладывались (или пробуждались?) дремавшие в наследственной, как сказал бы Марсель Пруст, памяти противоречия, рождавшие меланхолию — лейтмотив творчества писателя, всю жизнь ощущавшего себя изгнанником на родине, ссыльным на чужбине. Что неволило неоромантиков, этих духовных потомков Чайльд-Гарольда, в погоне за миражом абсолютной полноты бытия ненасытно вожделеть «невыразимого», и существовало ли на земном шаре место, где им дано было утолить испепелявшую их надежду?

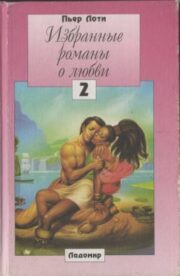
"Исландский рыбак" отзывы
Отзывы читателей о книге "Исландский рыбак". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Исландский рыбак" друзьям в соцсетях.