Спустя час я услышала мамин голос. Она стояла на нашей лужайке и говорила с соседкой. Сначала спокойно: «Буду признательна, если…» — и что-то о дороге к нашему дому. Подъезд загораживал «понтиак», за которым припарковался помятый «бьюик». Соседка ответила грубостью, и мама не осталась в долгу:
— Убирайте отсюда чертовы машины, не то позвоню копам! Мой муж — полицейский. Не успеете глазом моргнуть, как они приедут!
Хлопнула входная дверь, на кухне задребезжала посуда. Подобное происходило нередко — у матери был вздорный характер. «Иначе я бы не выжила в нашей семейке», — эти слова она однажды сказала папе, но я не совсем поняла, что она имеет в виду. При мне она упоминала о своих родителях лишь несколько раз — и всегда таким тоном, словно говорила о чем-то жутко неприятном. Например, о диарее. Или об экземе у Эвелин. Мамины родители к тому времени уже давным-давно умерли, но братья еще здравствовали. Как-то раз один из них позвонил, и мама расстроилась. Она сказала отцу, что ее брат — пьяница, которому нужны подачки, а она в подачки не верит и всего добилась собственными силами. Даже за высшее образование пришлось двадцать лет возвращать долги.
— Ариадна! — позвала мама, и я подпрыгнула от неожиданности. — Ты что, не слышишь телефон?
Оторвав взгляд от мольберта, я посмотрела на маму: она стояла в дверях, улыбалась, голос ее звучал мягко. Мамино настроение менялось по сто раз на дню. Не успела осыпать яростной бранью подрезавшего ее на дороге водителя, глядь — уже через минуту спокойно разговаривает.
Она вошла в комнату, остановилась у меня за спиной и оценивающе посмотрела на рисунок.
— Необычно, — произнесла она. — Хорошо, что ты следуешь совету учителя рисовать все подряд. Он знает, что нужно будущему художнику.
— Или будущему учителю, — пробубнила я, и мама закатила глаза.
Она мечтала о головокружительной карьере для меня, хотела, чтобы я добилась в жизни большего, чем она, а меня это пугало.
Зато мысль об учительстве — нет. Преподавание изобразительного искусства представлялось приятным и спокойным занятием, не зависящим от чужого мнения. А если я стану художником, непременно найдутся люди, которые будут утверждать, что я — бездарность. И у меня опустятся руки. Как тогда рисовать? А без рисования и жизнь потеряет смысл.
— Звонила Саммер, — сказала мама и добавила, что Тина сегодня собирается обслуживать банкет и была бы не прочь воспользоваться моей помощью.
Мне хотелось остаться дома и нарисовать еще одно дерево, однако мама решила, что на сегодня достаточно.
Она отвезла меня к Саймонам, сама задержалась на крыльце с Тиной, а я пошла в дом. В кухне Саммер с перепачканным мукой лицом нарезала полоски теста специальным колесиком.
— Как там твой красавчик зять? — спросила она, сдувая с глаз челку.
«Великолепен, как всегда, — подумала я. — Люблю, когда он ходит по дому без рубашки. Тяжелая атлетика работает на все сто — плечи у него необъятные. Но тебе, Саммер, я этого не скажу. Он женат на моей единственной сестре, и я стыжусь таких мыслей».
— В порядке, — ответила я.
Саммер вручила мне скалку и пакет с грецкими орехами, которые я тут же принялась дробить. Сегодня Саммер была без макияжа и выглядела намного моложе обычного — как раньше, до того, как она расцвела и очаровала всех вокруг. Тогда, до пубертата, мелирований и операций — по исправлению «ленивого» левого глаза и по выпрямлению носа — она ничем не отличалась от других детей. Разве только на Рождество некоторые подтрунивали над ней, потому что на двери дома Саймонов висел венок, а на окне стояла ханукальная менора. Я объясняла им, что они невежды: мать Саммер — прихожанка англиканской церкви, а отец — иудей, и Саммер, когда вырастет, сама выберет религию.
— Ари, — сказала она, — прости, что помешалась на Патрике, но без парня я просто загибаюсь…
— Как это — загибаешься?..
За всю жизнь у меня ни разу не было парня. Саммер сжала мою руку — и перепачкала мукой.
— И у тебя будет парень. Тогда ты узнаешь, как приятно заниматься любовью.
Она мечтательно улыбнулась, а два последних слова продолжали звучать у меня в ушах, даже когда она замолчала и вновь принялась за стряпню. Она не говорила «трахаться» или «заниматься сексом», а то самое место у мальчиков называла «волшебной палочкой» и никогда не употребляла бранных слов, которые сплошь и рядом слышались у нас в школе. Саммер была взрослой и умной, она прочитала почти все медицинские книги из библиотеки своего отца.
Она мечтала стать психиатром и уже попробовала себя в этой роли. Очень давно она рассказывала мне, что шизофреники слышат голоса, а у заложников может сформироваться стокгольмский синдром. В седьмом классе она провела беседу с влюбившимся в нее мальчишкой. Он звонил ей и пыхтел в трубку, писал дурацкие стишки. Однажды мы даже застукали его в раздевалке: он собирал волоски с ее пальто. Тогда Саммер усадила его перед собой и объяснила, что он ее не любит, а только так думает, на самом деле он страдает от чего-то другого — она произнесла психологический термин, который я быстро забыла. В общем, Саммер сказала, что это гораздо хуже обычного влечения, потому что можно запасть на кого-нибудь так, что просто свихнешься.
Больше он ей не докучал. Саммер считала его своим первым вылеченным пациентом и начала вести разговоры об УКЛА,[2] альма-матер ее отца. Я и слышать не хотела о том, что она уедет из Нью-Йорка. Мысль о разлуке с Саммер, моей лучшей подругой с первого класса, угнетала.
— Ари, — обратилась ко мне Тина, когда мы приступили к нарезке мяса, и протянула клочок бумаги с номером телефона. Волосы у нее обвисли, и выглядела она уставшей, как всегда. — Передай это маме. Ей нужен кто-нибудь, с кем можно переговорить в Холлистере.
— Спасибо, Тина, — промямлила я.
Родителям Саммер не нравилось обращение «миссис Саймон» и «доктор Саймон», и они просили называть их Тиной и Джефом. Узнав об этом, мама закатила глаза и пробормотала, что Тина и Джеф — прогрессивные люди.
Я засунула бумажку в карман и почувствовала на себе взгляд Саммер. О наследстве и о Школе дизайна Парсонс я ей рассказывала, но о Холлистере умолчала.
— Собираешься перейти в Холлистер? — спросила Саммер.
Она явно нервничала. Наверное, распереживалась, как бы я случайно не сболтнула ее подружкам об операции на глазу и об исправленном носе. Видимо, все они считали, что Саммер с рождения — само совершенство.
— Мама хочет меня перевести, — пояснила я.
В глубине души я надеялась, что мать обо всем забудет и даст мне окончить школу в Бруклине. Но я редко получала желаемое.
Месяц спустя мы с родителями отправились в Куинс на субботний обед. Патрик уехал на дежурство, а я собиралась у них ночевать: Эвелин вот-вот должна была родить, и Патрик боялся оставлять ее одну.
Я сидела на диване. Эвелин в летнем платье для беременных, не в меру коротком и с чересчур глубоким вырезом, услужливо протянула папе сосиску в слоеном тесте. В последнее время она еще больше располнела, над коленками появились ямочки.
— Эвелин! — Мама расположилась рядом со мной. — Ариадна сообщила, что в сентябре переходит в Холлистер?
Мы с мамой уже обсудили мой перевод. Накануне я призналась, что мне страшно. Я боялась нового окружения и была уверена, что не найду там друзей — у меня их и так почти нет. Однако мама настаивала, что все это полная ерунда. В ее глазах я — интересная, умная, потрясающая, и если этого кто-то не понимает, пусть идет к черту. К тому же осталось всего два года, и я должна согласиться, что Холлистер увеличит мои шансы поступить в колледж. Так что мне туда прямая дорога.
— Нет, не сообщила, — произнесла Эвелин, опускаясь в кресло. Живот у нее стал огромным, отечные ноги едва помещались в туфли. — А как вы собираетесь оплачивать учебу?
— Дядюшка Эдди оставил нам кое-какие деньги, — пояснила мама. — Разве я тебе не сказала?
Она, как и все мы, прекрасно знала, что она не говорила этого Эвелин. И теперь я почти слышала мысли сестры: «Дядюшка Эдди оставил вам деньги, и вы отправляете Ари в дорогую школу. Сколько это стоит, и где моя доля?»
Так нечестно. Мать с отцом сделали для Эвелин много добра: оплатили свадьбу и двухмесячное лечение в Пресвитерианской больнице. Но иногда она вела себя очень эгоистично.
— Что ж, очень мило, — произнесла она тем самым ироническим тоном, который появлялся у нее всякий раз, когда со мной случалось что-нибудь хорошее. Например, когда в прошлом году я участвовала в окружном конкурсе рисунков и заняла второе место. Я не понимала, почему она так себя ведет, ведь я всегда за нее радовалась. Я была счастлива, что Патрик на ней женился; правда, мне хотелось, чтобы он выбрал в жены меня.
Эвелин сменила тему и повела нас наверх, в гостевую комнату. Теперь ее переделали в детскую и покрасили стены в розовый цвет.
— Немного вычурно, тебе не кажется? — сказала мама.
Эвелин пожала плечами:
— Для девочки в самый раз.
— Конечно, — засмеялась мать, — но, милая, ведь ты не знаешь, девочка у тебя или нет.
Внезапно щеки Эвелин стали такого же цвета, как стены, лицо исказилось гримасой, которую я не раз наблюдала, когда она еще жила с нами в Бруклине. Казалось, она вот-вот расплачется или наложит на себя руки.
— Эвелин, а обед готов? — спросил отец. — Так хочется твоей запеканки с тунцом.
Запеканка с тунцом наряду с мясным хлебом и сандвичами с говяжьим фаршем — одно из ее фирменных блюд.
Эвелин повернулась к папе.
— Сверху я положила хрустящий картофель. Как ты любишь. — Она вяло улыбнулась ему.
На обед, кроме запеканки, был подан еще десерт — магазинный чизкейк, — после чего родители отправились домой, а я вымыла на кухне посуду. Эвелин уснула на диване, и Киран попросился гулять.

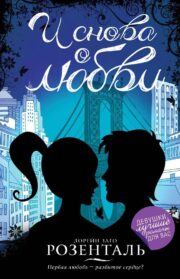
"И снова о любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "И снова о любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "И снова о любви" друзьям в соцсетях.