В эту минуту пронесся порыв ветра, листья зашумели и пламя факелов сильно заколебалось.
– О, кажется, буря идет нешуточная! – с досадой проговорил его светлость. – Я буду вас просить, милый барон, на остаток праздника уступить мне ваш зал – нельзя же молодых людей оставить без танцев!
Министр сейчас же подозвал лакея и отправил его с нужными приказаниями в Белый замок.
– Полчасика, вероятно, природа оставит еще в наше распоряжение, чтобы провести их на воздухе, – усмехаясь, проговорил князь, обращаясь к дамам, которые толпились вокруг него. – Я того мнения, что рассказ господина фон Оливейры среди окружающих нас лесных деревьев и под этим грозным, затянутым тучами небом получит более пикантной прелести, чем это было бы среди обыкновенной бальной обстановки, – слово за вами, господин фон Оливейра!
Его светлость уселся близ бюста принца Генриха. С шумной веселостью задвигались скамейки и стулья, и около князя образовался большой круг; несколько секунд еще раздавались возгласы, шуршанье шелковых платьев, затем все смолкло, так что слышно было потрескивание факелов.
Португалец стоял, прислоняясь к буковому дереву, которое осеняло бюст принца Генриха. Выражение беспокойства проглядывало на его лице, бледность все еще покрывала его смуглые щеки.
В эту минуту Гизела, никем не замеченная, прошла вдоль опушки леса и остановилась у стола, заставленного посудой, на котором еще стояла шкатулка Оливейры с бриллиантами. Хотя она и остановилась в тени, скрытая отчасти ветвями дерева, но португалец ее заметил – непреодолимое волнение отразилось на его лице, взор, брошенный им в ее сторону, был полон мольбы и боязни. Она улыбнулась ему и твердой рукой оперлась на стол. Эта нежная улыбка и вся эта горделивая осанка так и говорили: «Что бы там ни случилось, я верна тебе и люблю тебя!»
Сделав над собой усилие, Оливейра начал громким и спокойным голосом:
– Прежний владелец попугая был немцем. Он сообщил мне странную историю, и я поведу рассказ от его имени.
– Я был медиком при доне Энрико, человеке с большими странностями, который вел уединенную жизнь в своем замке и находился в неприязненных отношениях со своими родственниками, потому что они, как он выражался, его не понимали… Поблизости от этого замка жила маркиза, чудо красоты, несравненная по уму и дерзости. Она отлично понимала странный характер дона Энрико и, льстя его самолюбию, все странности его, при всяком удобном случае, объясняла оригинальностью и гениальностью его, в чем он и сам был убежден в глубине души своей… У нее были чудесные, янтарного цвета волосы – и вот, благодаря своей чарующей внешности, она опутала дона Энрико сетью, которая отделяла его от остального мира гораздо более, чем толстые стены его уединенного замка. Он не мог жить без своей прекрасной приятельницы. И в награду за то, что она одна так отлично могла его понять, он сложил к ногам ее все, что имел, отстранив по завещанию всех своих так мало его понимающих родственников; чудо красоты, остроумную Аспазию он сделал своей полной наследницей.
Он остановился и быстро взглянул в ту сторону, где стояла девушка, – теперь она обеими руками опиралась на стол и, как бы оцепенев, следила за рассказом. Но лишь только взор его коснулся ее, она, сделав над собой усилие, улыбнулась ему слабой, едва заметной улыбкой.
– Но сердце прекрасной Аспазии не было столь прекрасно, как ее наружность, и не всегда могло скрыть так хорошо свои недостатки, как бы она того хотела, – продолжал португалец слегка дрожащим голосом, – и дон Энрико, при всех своих странностях имевший в высшей степени честный и благородный характер, с течением времени стал замечать вещи, которые должны были казаться ему возмутительными. За этим открытием последовали неприятные объяснения, которые нередко доходили до того, что заставляли его сильно сомневаться в верности сделанного завещания… Маркиза с упрямством пренебрегала этими угрожающими признаками, она слишком надеялась на свое непреодолимое очарование, к тому же в приближенных дона Энрико она имела одного преданного друга.
Спокойным взглядом рассказчик обвел внимательно слушавшую его толпу, остановив его на бесстрастном лице министра, сидевшего рядом с князем; сонливо опущенные веки на мгновение приподнялись, и взгляд его, полный ненависти, встретился со взором португальца.
– Однажды маркиза давала блестящий бал в своем замке, – продолжал Оливейра. – Дона Энрико там не было. Но в то время как, подобно какой-нибудь волшебнице в своем сияющем маскарадном костюме, прекрасная Аспазия расхаживала по своим роскошным покоям, около полуночи ей шепнул кто-то на ухо, что друг ее лежит при смерти. Почти в беспамятстве от страха и ужаса, бросается она в экипаж и уезжает одна, взяв возжи в руки, в страшную бурю, чтобы спасти себе полмиллиона.
– Она была одна? – проговорила Гизела задыхающимся голосом, протягивая к португальцу руку, чтобы прервать его.
– Она была одна.
– С ней не было дочери, которая бы ее сопровождала?
– Дочь оставалась на балу, – вдруг проговорил глубокий, суровый голос чуть слышно. Подойдя к столу, старый солдат, как казалось, с полнейшей бесстрастностью, но с торжеством во взоре, намеревался взять шкатулку, чтобы отнести ее домой.
Почти в ту же минуту Гизела увидела перед собой министра, который крепко, почти до боли, сжал ей руку.
– Что это значит, дитя, что ты прерываешь восхитительную сказку, которую мы все слушаем?.. Неужели ты никак не можешь отвыкнуть от своих ребяческих замашек? – проговорил он громко.
Но этот громкий тон звучал так странно, как будто бы в нем человек этот сосредоточил всю дерзость, всю непреклонность – все те опасные качества, которыми он обладал до сих пор в такой сильной степени. Очень может быть, что до его слуха также долетел ответ старого солдата, но, не давая этого заметить, он повелительно указал ему по направлению к Лесному дому. Старик удалился, насмешливо улыбаясь.
Не оставляя руки, министр принудил падчерицу следовать за собой. Идя на свое место, он с улыбкой многозначительным взглядом окинул общество, как бы говоря: «Смотрите, что это за экзальтированное, своевольное созданье!»
– Досказывайте нам историю, господин фон Оливейра! – вскричала графиня Шлизерн, между тем как его превосходительство поместил падчерицу между собой и своей супругой. – Сейчас капля дождя упала мне на руку. Если нам придется в бальной зале дослушивать конец вашей сказки, то вся пикантность ее для нас будет потеряна.
Лицо князя мало-помалу теряло свое беспечное выражение. Маленькие серые глазки с недоверием начали следить за рассказчиком, так спокойно, со скрещенными на груди руками, прислонившимся к дереву и прямо и смело смотревшим в светлейший лик, – он начинал ему внушать неприятное чувство… Как все слабые характеры, которые благодаря случайности занимают высокое, привилегированное положение в обществе, он был очень склонен решительное, самоуверенное проявление мужества и твердости считать за недостаток снисходительности и на самом деле не выносил этого. А между тем рассказ этого человека имел поразительное сходство с той старой, темной, наполовину забытой историей, придавать значение которой он никогда не хотел ради министра. Подавить же желание узнать развязку этой странной истории он не мог, а потому довольно поспешным и не лишенным милостивого внимания движением руки он пригласил португальца продолжать свой рассказ.
Португалец отошел от дерева. Вторичный порыв ветра уже с большей силой пронесся в воздухе.
– Здесь начинается самообвинение человека, от лица которого я говорю. Он совершил важный проступок, но за то и пострадал, – продолжал он, возвышая голос. – В ту ночь, когда смерть так неожиданно настигла дона Энрико, при нем находились только виконт – блестящий, храбрый дворянин – и я, – так гласит дальнейший рассказ немецкого медика. – Умирающий воспользовался несколькими минутами, которые ему остались, чтобы опровергнуть свое завещание, – он стал диктовать новое. Мы писали оба, чтобы соблюсти большую верность, – шепот умирающего, прерываемый стонами, был слишком невнятен… Он делал главу своей фамилии полным наследником своего имущества, не оставляя из них маркизе ни гроша, ни пяди земли… Дон Энрико подписался на рукописи виконта, как более ясной и понятной, и мы оба поставили на ней свои имена как свидетели… Как бы сбросив с себя тяжелое бремя, умирающий опустил голову свою на подушку. Вдруг мы услышали, как дверь в переднюю с шумом отворилась и раздалось шуршанье шелкового платья. Нам слишком хорошо были известны эти шаги! Виконт поспешно вышел, чтобы прикрыть дверь, а я, схватив закрепленное подписями завещание, быстро спрятал его в свой боковой карман… А там, в передней, прекрасная Аспазия бросилась к ногам виконта и своими белыми руками обнимала его колени. Желтые волосы, растрепанные бурей, падали наземь; только одна прядь, спускаясь вдоль виска, как тонкая красная змейка вилась по ее белоснежной шее, лоб был поранен камнем, сорванным бурей с повалившейся стены, – маленькая полоска крови струилась по нему… Виконт забыл свою обязанность и честь, пленившись трогательной беспомощностью лежащей у ног его красавицы, – дверь раскрылась, и маркиза ринулась к постели умирающего… Последним словом дона Энрико было проклятье ей; он умер с уверенностью, что загладил свою несправедливость относительно родственников, но прекрасная Аспазия с побледневшим от страха восковым лицом была все же его и нашей властительницей… Коварная змея опутала своими мягкими, ласкающими кольцами гордого, благородного человека, главного свидетеля, – он вдруг отошел к оконной нише, повернувшись спиной ко всему, что происходило в комнате. Затем она, извиваясь, обратилась и ко мне, и прошипела мне тихо на ухо, что ее единственная дочь, существо, которое боготворило мое сердце, будет моей, если я позволю ей прочитать листы, которые лежали на столе, – я отвернулся. Она схватила написанный мной экземпляр завещания, полушепотом, дрожащим от гнева голосом прочитала первый параграф, из которого увидела, что умирающий отказывается от нее. Она не перевернула страницы и поэтому не заметила, что он не подписан… Вдруг, громко рассмеявшись, она скомкала бумагу и бросила ее в камин… Только впоследствии, вступив во владение наследством, перешедшим к ней в силу первого завещания, она соблаговолила сообщить мне, пожимая плечами и ядовито улыбаясь, что дочь ее была уже обручена с человеком, равным ей по происхождению, еще до ее безумной поездки к умирающему принцу. Выдать ее я не мог, так как этим я выдал бы самого себя!

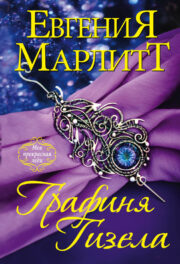
"Графиня Гизела" отзывы
Отзывы читателей о книге "Графиня Гизела". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Графиня Гизела" друзьям в соцсетях.