Гизела не осталась в бальном зале, она ушла в комнату, примыкавшую к домовой капелле, довольно отдаленную от прочих покоев.
Баронесса Флери и госпожа фон Гербек отправились за молодой графиней. Обе они употребили все свои усилия, чтобы узнать, о чем она хотела говорить с князем. Но так как ни просьбы, ни угрозы не тронули непокорную падчерицу и не заставили ее, согласно желанию министра, возвратиться в Грейнсфельд, ее превосходительство, пожав плечами, оставила комнату.
Госпожа фон Гербек, глубоко вздыхая, уселась в кресло; молодая графиня принялась спокойно ходить по комнате, останавливаясь по временам у двери, из которой видна была лестница, ведущая в верхний этаж, в покои их превосходительств, – князь был там и на своем обратном пути в бальную залу должен был спуститься по ней.
Поднявшись в верхний этаж с двумя своими спутниками, его светлость достиг салона с фиолетовыми плюшевыми занавесами и запер за собой дверь, которая вела в длинную анфиладу комнат. В зеленой комнате, смежной с салоном и отделявшейся от него портьерой, разливался бледный матовый свет из висевшей на потолке лампы, освещая зеленый фон обоев, неясные очертания морских богинь и как бы выступающий из рамы чудный образ графини Фельдерн.
Князь остановился среди комнаты и поспешно вынул из кармана документ. Теперь уже он не маскировал своего волнения. Вскрыв бумагу, он прочел задыхающимся голосом: «Генрих, принц А. – Ганс фон Цвейфлинген, Вольф фон Эшенбах».
– Нет сомнения! – вскричал князь. – Эшенбах собственноручно передал вам это завещание, господин фон Оливейра?
– Прежде всего я должен сообщить вашей светлости, что я немец, – сказал португалец спокойно. – Мое имя Бертольд Эргардт – я второй сын бывшего смотрителя завода в Нейнфельде.
– Ха, ха, ха! – вскричал с торжеством министр. – Я как будто знал, что вся эта история кончится подобной развязкой… Ваша светлость, мы имеем в государстве снова самого отъявленного демагога – двенадцать лет тому назад он спасся бегством от кары закона!
С суровым взглядом князь отступил на шаг назад.
– Как вы осмелились под ложным именем представиться мне? – вскричал он грозно.
– Я на самом деле фон Оливейра – в Бразилии у меня есть владение, носящее подобное название, и как владелец его я ношу это имя, – возразил с невозмутимым спокойствием португалец. – Если бы я возвратился в Германию из своих собственных, чисто личных интересов, ничто в мире не заставило бы меня изменить мое немецкое имя, уважаемое всеми в здешнем краю… Но я взял на себя обязанность, для исполнения которой требовалась большая осторожность… Я должен был вступить в непосредственные отношения с вашей светлостью, но был убежден, что при моей мещанской фамилии подобные отношения никогда не будут возможны, учитывая строгость придворного этикета в А.
– Да, почтеннейший мой господин Эргардт, – прервал его высокомерным тоном министр, – вам действительно никогда бы не удалось мистифицировать его светлость подобной нелепостью, – и он указал на завещание, – если бы вы сохранили ваше «всеми уважаемое имя»… Ваша светлость, – обратился он к князю, – никто более меня из подданных ваших не желает так увеличить владения и доходы княжеского дома – все действия мои говорят за это, – но с моей стороны было бы непростительным безрассудством, вопиющей несообразностью, если бы я не решился эту жалкую стряпню признать за подлог!.. Многоуважаемый господин демократ, я слишком хорошо понимаю замыслы ваши и вашей хваленой партии! Этим самым завещанием шайка пытается нанести удар благородным сподвижникам отечества, охраняющим трон монарха, но берегитесь – я также в числе их и возвращу вам ваш удар!
Лицо португальца вспыхнуло ярким румянцем, и правая рука, сжатая в кулак, задрожала, но Бертольд Эргардт не был уже более тем пылким студентом, которого когда-то другой должен был сдерживать в границах самообладания, – в эту минуту человек этот остался верен своей могучей силе воли, выработанной жизнью.
– Выслушав меня, его светлость поймет, почему я отказываюсь от всякого удовлетворения с вашей стороны, – проговорил он хладнокровно.
– Бесстыдный… – продолжал министр с раздражением.
– Барон Флери, я убедительно прошу вас быть умереннее, – возразил князь, прерывая его и повелительным жестом поднимая руку. – Оставьте этого человека говорить – я хочу сам убедиться, действительно ли партия ниспровержения существующего порядка и ненависть…
– Так называемая партия ниспровержения существующего порядка в стране, управляемой вашей светлостью, не имеет ничего общего с данным обстоятельством, – проговорил, прерывая его, португалец. – Что же касается ненависти, о которой упоминает ваша светлость, то не могу не признаться вам в моей глубокой, бесконечной ненависти к этому человеку!
И он указал на министра, который отвечал ему презрительным смехом.
– Да-да, смейтесь! – продолжал португалец. – Этот презрительный смех раздавался в ушах моих, когда я должен был бежать из отечества! С мыслью о мщении переехал я океан; палящее солнце юга, а тем более рассказы несчастного Эшенбаха, не умевшего до последней своей минуты примириться с совестью, постепенно довели мысль эту до мании. Этот лист бумаги, – он указал на завещание, – также должен свидетельствовать против этого человека, надругавшегося над моим бедным братом, ввергнувшего в нищету двух не повинных ни в чем людей, и все это потому, что он прельстился женой Урия. Повторяю еще раз, что возвратился сюда единственно для того, чтобы отомстить!.. Но это пламя потухло в моей груди – недавно честное, благородное существо убедило меня, сколь нечисты были мои стремления… И если я теперь продолжаю последовательно идти к своей цели, другими словами, если я сброшу вас с высоты вашего абсолютного владычества, то главным мотивом, побуждающим меня стремиться к этому, есть желание уничтожить бич моего несчастного отечества!
Князь застыл, пораженный как громом этой невероятной смелостью, министр же порывался к звонку, как будто он был в своем бюро, а за дверью целая толпа полицейских ожидала его приказаний.
Холодная улыбка промелькнула на губах португальца. Он вынул маленький пожелтевший клочок бумаги, который также должен был служить доказательством обвинения этого человека.
– Ваша светлость, – обратился он к князю, – в ночь, когда принц Генрих лежал на смертном одре, один человек отправился в А., чтобы призвать князя для примирения с умирающим. Грейнсфельд лежал в стороне, но всадник оставил шоссе, ведущее в А., поехал по дороге к замку, где графиня Фельдерн давала в этот вечер большой маскарад. Среди бала к графине вдруг подошел человек в домино и сунул ей в руку эту записку – впоследствии она выронила ее у постели принца, а господин фон Эшенбах поднял ее и сохранил.
В эту минуту министр вне себя бросился на португальца, пытаясь вырвать у него из рук бумажку. Но старания его были тщетны – одним движением португалец отстранил от себя нападающего и передал записку князю.
– «Принц Генрих умирает, – читал его светлость дрожащим голосом, – и выразил желание примириться с княжеским домом. Поспешите – иначе все напрасно. Флери». Несчастный! – проговорил князь, бросая к ногам министра записку.
Но этот человек все еще не хотел считать себя погибшим. Овладев снова собой, он поднял бумажку и пробежал ее глазами.
– Неужели ваша светлость вследствие подобной жалкой инсинуации захочет осудить верного слугу своей фамилии? – спросил он, ударяя рукой по бумаге. – Я не писал этой записки – она поддельная, и клянусь в том.
– Поддельная, как и фамильные бриллианты Фельдерн, которые носит ваша супруга? – спросил португалец.
В соседней комнате раздался звук упавшей на пол подушки, затем издали слышно было, как кто-то с силой хлопнул дверью.
Худшим свидетелем против министра было его лицо – его нельзя было узнать, но он продолжал защищаться с отчаянием утопающего.
– Ваша светлость, не торопитесь верить, что вы имеете дело с негодяем! – заговорил он. – Уместно ли здесь рассуждать о моих частных и семейных отношениях, которые грязнят здесь с таким неслыханным бесстыдством?
Князь отвернулся – ему невыносимо было смотреть на судорожно подергивающиеся черты своего старого любимца и повелителя, старающегося сбросить с себя таким образом тяжкое обвинение.
– Я нисколько не желаю касаться ваших частных и семейных отношений, – продолжал португалец, – хотя не могу не сознаться, что и эта сфера мне не чужда.
– А, для вас интересно обшаривать мои карманы и рыться в моем белье?
Министр еще раз пытался придать словам этим свой обычный презрительно-саркастический тон. Но все это было напрасно.
– Вы имели непримиримого врага в лице фон Эшенбаха, – продолжал португалец. – Горе заставило его бежать из отечества; несмотря на приобретенные им богатства, он продолжал оставаться бедным, несчастным, одиноким человеком и на чужой стороне должен был сложить свои кости… Измена и вероломство не прошли даром и для фон Цвейфлингена – он опускался все ниже и ниже… Только вы, первый подавший сигнал к тому постыдному обману, преданный помощник графини Фельдерн, завязавший вместе с ней первые петли сети, опутавшей двух безумцев, – только вы твердой ногой встали на совершенное вами преступление и, окруженный почестями, уважением, достигли того неограниченного и бесстыдно употребляемого вами могущества… Было время, когда фон Эшенбах, не перестававший питать любовь к дочери той корыстолюбивой женщины, надеялся, что жизнь еще улыбнется ему, – это было, когда он получил известие о смерти графа Штурм, фон Эшенбах хотел возвратиться в Германию, – но тут снова поперек дороги его стал могущественный министр и повел прекрасную вдову к алтарю.
– Вот оно в чем дело-то! – вскричал министр глухим голосом. – Моя счастливая звезда возбудила зависть, которая и точила свое оружие против меня в тишине и мраке!
– Не оружие, ваше превосходительство, а противоядие злу, которое торжествовало столь многие годы! – сказал португалец, подчеркивая каждое слово. – С той минуты фон Эшенбах следил за вами всюду, как неутомимый охотник, преследующий свою дичь. Он обладал миллионами – а вы открывали ему тысячи путей наблюдать за собой в самых сокровенных ваших поступках. Ему были известны самые интимные дела ваши в Париже и на водах, в игорных притонах; за несколько дней до своей смерти он передал мне все эти подробности. Это на самом деле ваши частные обстоятельства, и они не могут быть причислены к делу. Но никоим образом нельзя назвать частным делом то, что вы растрачиваете собственность вашей падчерицы, когда принадлежащие ей бриллианты продаете за восемьдесят тысяч талеров и взамен их делаете ничего не стоящую жалкую копию… Точно так же нельзя считать вашим частным делом и то, что вы здесь стоите на несправедливо приобретенной земле, ибо Белый замок никогда не был вами куплен, он – цена вашей измены княжескому дому!..

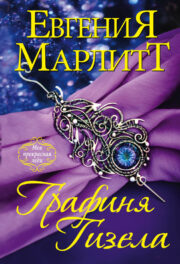
"Графиня Гизела" отзывы
Отзывы читателей о книге "Графиня Гизела". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Графиня Гизела" друзьям в соцсетях.