Однако жизнь – это всегда игра.
И постепенно созревающий человек очень быстро находит это несовершенство нашего «эго», в его же противоречии не может быть правды без лжи, как любви без обмана и ненависти.
Поэтому все мы невольно духовно и физически насилуем себя этой правдой-ложью, а истина спрятана где-то посередине, ей не дано существовать отдельно, иначе она просто бессмысленной абстракцией, обструкцией – изгнанником в силу собственного предупреждения – неведенья. Когда я пытался соединить философию жизни с литературой, написал то ли рассказ, то ли эссе «Яма и ветер». Это было не слишком удачное произведение…
Часто возникающий в моих снах и мыслях Леллямер, готов был стать главным героем, но не смог, – его все время оттеняла философская глубина странного рассказа «Яма-дыра» – вход в потусторонний мир.
Ветер – философия, постоянно изменяющаяся игра, игра мертвых и живых в прятки с собой».
«Что это?» спросил нетерпеливый Леллямер, – что это, если это могила, то почему она вырыта именно здесь?! Если это яма, то ей здесь совсем не место!
Вопрос Леллямера, поставленный где-то в поле, за городом, есть вопрос существенно принципиальный, т. е. абсолютно пустой, как и все мое произведение.
Отсюда возникает закономерный вопрос: почему же я его тогда написал?!
Ответ: «Кто бы ни был, всегда пытается распознать себя в другом, например, Леллямер в женщинах, а я в друзьях, кто-то в собаках…» («Яма и ветер»).
Я чувствую, что в данном рассказе Леллямер – это мое второе «Я», т. е. подсознательно я тоже хочу быть там, где он, т. е. где угодно и обязательно с женщинами». Т. е. я хочу сказать, что втайне я очень скверный человек, наверное, как и все.
– Справедливость дана только равнодушным, – так говорит Леллямер Ивану Матвеевичу, когда бывает сильно пьян…
– Совершенство разврата есть преимущество старых, а не молодых, – учит по пьяной лавочке Иван Матвеевич Леллямера…
Леллямер тут же ухмыляется и говорит, что старики любят только форму, забывая про содержание (и ветер»).
Иван Матвеевич тоже выступает как мое второе «я» которое, объяснившись, вместе с Леллямером пытается ниспровергнуть мое первое «я» и иную реальность.
Я даю волю им обоим и путешествую вместе с ними по иному миру. В принципе, он такой же, как этот, однако более всего он похож на перевернутое изображение моего реального мира.
«20 век любуется собой по инерции, как робот… Поэтому мне нравится Терминатор», – смеется Леллямер.
– Дурак, Терминатор же машина, – возмущается Иван Матвеевич. («Яма и ветер»).
Я чувствую, что мое второе «Я» спорит, чтобы согреть себя словами и опечалиться собственным смыслом… с всегда пьян, но всегда с женщиной…
Он молод, а поэтому не прав»… – приблизительно так отзывается Иван Матвеевич о своем друге за его спиной («Яма и ветер»)
Меня всегда волновала проблема что-то такое говорить о человеке за его собственной спиной, т. е. я думал: имею ли я право говорить о нем такое кому-то другому, если не могу такого сказать прямо в глаза?
«На мой взгляд, метафизика заканчивает свое существование в женщине, потому что она и он вместе с ней вышли оттуда, т. е. из нее, из женщины» («Яма и ветер»).
Можно сказать, что я не пишу рассказ, а как бы описываю его и как автор, и как философ, и как критик.
Мое второе «Я» остается неподвластным моему ничтожному рассудку, – почти всегда я не знаю, о чем буду писать, мысли возникают сами, безо всякого разрешения и соответствия с реальностью.
Иначе говоря, вымысел замаливает мои собственные грехи через моих героев. Или я хотел бы думать так, как они, но не могу, а только лишь пытаюсь.
«Впервые я испытал любовь в возрасте 5 лет, – говорит Леллямер, – когда одна девочка саду укусила меня за палец… Палец распух, посинел и болел после три дня, и все три дня я думал только об этой девочке» («Яма и ветер»)
Можно сказать, что рассказ не дописан мной по причине временного отсутствия во мне Вселенной…
Я мучился, ходил из угла в угол, брал в руки и опять швырял тетрадку, но законченности не было, ибо Иван Матвеевич куда – то исчез, а Леллямер просто устал мне передавать мои собственные мысли.
Кроме всего прочего, он как всегда скатился на подлость, стал описывать свои романы с учительницей английского языка, потом с пионервожатой, и я вдруг понял, что он меня просто дурачит, ломает меня своим же небытием.
Тогда я опять привлек Ивана Матвеевича… Иван Матвеевич уже устал слушать улыбающегося без всякого смысла Леллямера, и поэтому сгреб его в охапку, и перекинул через кусты акации, как в прошлый раз.
– Ай-е, дед, ты мне всю печенку зашиб, – застонал Леллямер.
– А ты не матерись! – насупился Иван Матвеевич («Яма и ветер»).
Они опять должны были выпить, я уже писал подобный рассказ, и именно про них. Теперь это было ни к чему, они, конечно, рано или поздно помирятся как два одного и того же человека, но что-то главное опять пропадет.
Недоговоренность и незаконченность, как писал М. Бахтин, есть признак бессмертия. (Души, конечно, а не творения, хотя как знать?!)
Ведь получается, что я тоже пишу без всякого смысла, хотя где-то в глубине он может и существует, но разве это можно как то более полно правдоподобно ощутить-ощупать?!
Однажды меня уже водил за нос один человек. Это был Сан Саныч, человек из моего воображения, следовательно, просто литературный герой. В то время меня как-то очень странно волновала проблема «двойника», уже описанного в литературе Достоевским в фантасмагории «Двойник» и Дафной Дюмморье в романе «Козел отпущения».
Моя повесть «Пребывающий в неизвестности» была попыткой выразить собственного двойника через Смерть как фатум, рок и одновременно через Воскресение.
Сан Саныч пробуждается в собственном гробу и видит, как все над ним плачут, т. е. его уже отпевают и хоронят.
И одновременно он видит среди своих близких и родных своего двойника, который все знает; знает, что юн, Сан Саныч, жив, и все равно притворно плачет, обнимает вдову и при этом строит ему, Сан Санычу, дьявольские рожицы. Именно так начинается эта повесть.
К сожалению, она так и осталась незаконченным произведением, поскольку рукопись повести я потерял вместе с тетрадью, а восстановить смог только 1-ую часть. Это еще раз доказывает бессмысленность моего собственного творчества. К тому же эта повесть очень близка настоящим мыслям сумасшедшего, ибо в ней я исследую раздвоение своего второго «Я».
Причем, я не останавливаюсь на одном лишь образе Сан Саныча, а иду дальше в пространство.
Ибо если может существовать сразу на одной земле несколько одинаковых Сан Санычей, то жизнь сразу, без всяких предисловий теряет свой смысл, а, как известно, один абсурд без смысла существовать уже не может.
Действо должно рождать противодейство, отсюда и борьба без границ и без правил, отсюда все войны и убийства.
Мы летим по воле рока,
Сеем головы в борьбе.
Жизнь нелепа и жестока,
Мы загадочны в себе».
Эти стихи возникли как послесловие к собственным размышлениям. Еще я хочу выразить протест против самого себя, как и всякого другого художника.
Ведь мы – творители и родители, так или иначе, выдуманного мира лишь засеваем пустоты нашего времени, часто не думая о последствиях такого странного шага… Это говортит опять мое второе «Я»…
Я постоянно борюсь с ним, истребляю его…
Иль просто зверем телом упиваться,
Утратив дар своей всевышней чистоты.
Строчки моих ненужных стихов… Они как измочаленные тела грешниц после безумной ночи… Или как вырванные с корнем растения, в коих, один лишь миг запечатленной красоты… И все!
– Зачем же тогда я пишу?! – спросит кто-нибудь, если не я сам себя.
– Да, зачем? Чтобы разговаривать с Богом!
Поэты – они – небожители. Их стихи не умирают…
«Вначале возникло Слово, и Слово было Бог» (Евангелие от Иоанна).
Жалка всякая слава, ничтожна всякая известность, презрение, всякие деньги».
«Прекрасен миг запечатленной красоты».
Даже наслаждающая взор, слух и обоняние красота рассыпается в пепел и в прах. Но поэзия остается как память, как предание, как ощущение.
«Вечно красотой владеют боги», – так я написал в 17 лет…
Современный мир не ощущает красоты, а только трогает.
Но и в нем есть люди – не похожие не остальных.
«Моя молодая телесная сущность вышла из солнца…
Она гиацинтом цветет, целующим небо».
Так я вспоминаю свою молодость.
«Я один среди мира, мне страшно…» – так я выражал свой по-детски бессмысленный страх.
«Ветер говорит устами неба. Неба мудрого и вечного, как солнце».
Так я вспоминаю свои прошлые стихи. Поэзия возникает из одной строки.
Мысль погружается в тебя, вытаскивая ощущение уже слитое – совокупившееся с этой случайной мыслью.
Тебе остается только записать все, что прошло сквозь тебя.
Твое тело – посредник между тобою и Богом.
Даже исчезая, тело оставляет воздух, т. е. невидимый, повсюду возникающий Дух. Душа в теле как птенец в скорлупке, как птица в клетке.
Недаром же Сократ сказал, что тело – тюрьма для Души.
Но как же мы любим эту тюрьму, как жалеем ее, даже старую, жалкую и ненужную. И как чиста, как яма, в ней всякая Память.
И как мы ужасно жалеем себя!
Никто не будет час любить
Как нам хотелось бы во сне,
Меня глаза не отпускают,
А жаль… я таинства ищу…
Везде льется какой-то обманный свет… Люди отпускают поводья и уходят в глубину столетий… Они повторяют ошибки своих отцов и матерей.
И ненависть клокочет как сила всеобщего непонимания, отсутствия чувств, как могильная болезнь, в которой один только холод и мгновенное разложение… Белый туман как саван, и одно только молчание впереди…
Время пролетело как ветер, и ничего здесь не осталось.,..
Источают губы у лона

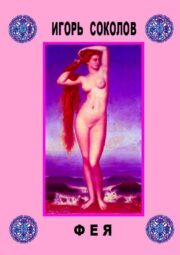
"Фея" отзывы
Отзывы читателей о книге "Фея". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Фея" друзьям в соцсетях.