Вот оно мое второе оно открылось мне внезапно при прочтении собственных же стихов в прозе.
Я очень долго страдал прежде, чем написать что-нибудь подобное.
Все опять сгорают от стыда за свое же любопытство», – это уже строчка из стихотворения в прозе «Дорога в небо», это можно считать даже рассказом, но если продолжить цитаты из него, то можно понять, что это все-таки стихотворение.
«Из огня идет дым, из неба снег, а из нас одно вожделение», – на этом Петр Петрович замолчал и стал поглядывать на часы…
– Вообще-то так не бывает, – осторожно вздохнул я и стыдливо опустил глаза в землю».
Итак, в этом стихе-рассказе мои глаза вроде бы опущены в землю, однако откуда взялся этот стыд?
«Он опускает грехи наши вместе с телами в землю» («Дорога в небо»).
«Ходим по земле, она просыпается и возвращает нам все обратно» – это говорит Петр Петрович – мой выдуманный герой. Он – мое второе «Я», и я беседую с ним, как сам с собой…
Я стыжусь своего второго Я, его слов о самом себе, хотя именно оно в образе Петра Петровича дает мне понять, что именно отсюда идет дорога в небо»…
Иначе сказать – на кладбище и в Вечность.
Однако я не хочу останавливаться на такой грустной ноте и поэтому, поэтому скажу еще кое-что…
«Всякий человек еще с детства мечтал вырваться отсюда» – это из «Эсфирь» – первая строчка, она родилась во мне, когда я разглядывал на оконном стекле мух.
Занятие, конечно, не слишком достойное для человека, но для философа вполне интересное, и я бы сказал, альтруистичное. Ведь, по сути дела, я отдаю свое время мухам, этим крошечным и грязным от всяких излишних прикосновений созданиям.
Однако еще Лукиан заметил их безумные соития в воздухе и описал их таким образом, что всякое праздное любопытство будет разожжено до крайнего предела. Ну, возьмем, хотя бы вот этот маленький отрывок:
«Что может быть счастливее и блаженнее мух, соединяющих свои гениталии прямо в воздухе. Какой только смертный втайне не мечтал об этом?!» – вольный перевод самого автора.
Самое главное, что смысл от моего перевода не извратился, он без того слишком превратный, чтобы серьезно осознавать это…
Василий Розанов множество раз подчеркивал, что все люди – негодяи, но делал он это так просто, душевно и от всего сердца, что покупал нас одним своим обаянием.
Вот я и пытаюсь здесь натворить что-то такое, чтобы все грешники одним разом к бесам разлетались, – т. е. я апрофондирую любовь к людям из христианско-житейского в язычески-тайное.
Кстати, именно Розанов назвал христианство философией умирания и был тысячу раз прав, ибо молиться – это значит ни на кого уже не надеяться, кроме Бога, а что значит в этом смысле Бог…
Вот ты, к примеру, взял и бросился с 9-го этажа вниз, прочитав о своем спасении молитву, и что же ты – спасся?!
– Нет! Не думаю! Однако я не атеист, я верую в Бога, и если даже что-то серьезное выдумывать – выпутывать из христианства, то обязательно что-нибудь найдешь, откопаешь…
Любящий Душу свою погубит ее, – это Иоанн, его Евангелие, его благая весть обо всем человечестве сразу.
Он написал то, что думал, а думал он в это время о Христе, который пошел из-за нас на Голгофу… Или нет, его повели, он, может, и не хотел этого, но делать было нечего, поэтому сразу же и возник этот мистический смысл.
Смерть всегда обнаруживает его в нашем прахе, хотя наш прах и не нуждается в каком-то серьезном научном обосновании, однако черви, которые его поедают, очень схожи с нами, с думающими людьми.
Мы думаем, мы поедаем одинаково: они – прах, мы – смысл, идея поедания сближает все живое…
«Всего лишь только миг – и нет тебя». Это строчка из моего стихотворения.
Сначала я хотел написать что-то другое, потом раздумал, а затем возникло это. В это время из соседнего дома выносили гроб и громко плакали женщины.
Вообще, они умеют плакать, как бы это кощунственно ни прозвучало, ведь они рожают, а следовательно, и обрекают нас на это гибельное существование, и все-таки мы их любим, ведь без них бы не было даже сна, в какой иногда проваливается вся наша жизнь.
«Различие между сном и смертью почти не существует, ибо существование во сне, как в одном миге связано всеми краями плоти с Вечностью», – так писал профессор Вольперт, чье имя я выдумал вместе с книгой «Иллюзия сна и смерти».
Эту книгу я писал по ночам, так мне легче думалось и писалось, а чтобы не было скучно, я курил, пил кофе и гладил кошку.
Иногда смотрел в окно, но ничего особенного там не видел.
Вообще, эта книжка был настоящей белибердой, герои в ней бродили как заключенные в какой-то темной камере и все время болтали между собой, ища выхода, а этот самый Вольперт мучил их то как врач-психиатр, то как сумасшедший гипнотизер.
Это было опять мое второе «я», похоть одинокого мужчины превращалась в философский смысл. Еще это было связано с близкими мне людьми, которые как свечи на ветру согревали меня одним своим видом, вселяя надежду на будущее.
В это время я действительно был одинок и очень плохо засыпал. Всю ночь ворочался с боку на бок и часто вздыхал, кошка спрыгнула с кровати, уже не думая согревать мои ноги… И мне стало грустно от того, что я один.
Потом я пытался перенести все это в творчество и написал книгу «Сон в нахождении грусти».
Более скучной книги, наверное, никогда не было на свете, это было похоже на замедленный хронометр Марселя Пруста: «Листья были желтые и бурые. Они залетали иногда через форточку, стремительно падали на старый, в облезлой коричневой краске пол и долго трепыхались на нем, как пойманные птички… Я печально трогал их шероховатую, местами гладкую кожу и громко рыдал, глядя в шумящий пустым опустошающим шипением телевизор, программа кончилась, словно моя собственная и никому не нужная жизнь»…
Дальше продолжать не хочется, ибо на 5 страницах я перебирал пыльные вещи, разглядывал пожелтевшие фотографии и вообще, вел себя как дурак или олигофрен, хотя кому какая разница?!
Впрочем, я пытался разговаривать с вещами, а это кому-то может показаться интересным…
«Я говорил старой, усыпанной моим детским почерком тетради, что она очень большая и солидная тетенька, я даже называл ее по имени – Аграфена Семеновна, так звали старушку-уборщицу в нашей школе, когда я учился в 1-ом классе и писал такие стихи:
Ты не знаешь ласки,
Ты не знаешь слез,
Холодна, печальная,
как скрип несмазанных колес…
Аграфена Семеновна всегда нежно трепетала под моими неопытными, еще младенческими пальчиками, пытаясь казаться стыдящейся особой, хотя ее темно-серая коленкоровая обложка старалась придать ее движениям серьезную задумчивость и порядочную стыдливость».»
Дальше шел альбом, имя альбома Антон. Он, словно огонь, освещал мое прошлое детство наивным рисунком, и в нем было так много кокетства, что я был заворожен».
Да, в детстве я много рисовал, но, увы, также много выбросил, еще больше выбросили мои родители, но я их не виню, поскольку все, что мы создаем, так или иначе становится никому не нужным хламом».
«Диван был Львом Птоломеичем, он был моим тайным другом и соратником, именно на нем я сидел со своей первой девочкой и учился целовать ее в мягкие и нежно податливые губы…»
«Иногда Лев Птоломеевич сердился и громко скрипел под нами, родители выбегали смотреть, что со мной, но Таня пряталась под одеялом, ее хрупкие очертания терялись в его складках как характерный рельеф статуи свободы…»
Уходила она уже под утро, тихо, на цыпочках, она проскальзывала приоткрытую дверь, словно мышь сквозь замочную скважину.
И мама потом удивлялась: «Почему дверь не заперли?»
Однако это не совсем, правда, отчасти это моя фантазия, а вместе с ней и мое безутешное второе «Я», которое все еще пытается вызвать меня на откровенный разговор. Опять раздвоение! Опять я томлюсь, как грешница пред блудом!
Реальность и фантазия, как России я заграница…
В одном Космосе существует две разны линии горизонта, два совсем непохожих одного и того ж, человека.
Отвергавших друг друга ради смысла, которого, увы, здесь не найти!
«Конечно, за границей все как-то тихо, спокойно, сытно и вкусно, и вообще, как-то благополучно. А вот в России все как-то грязно, шумно, вульгарно, и вообще как-то скверно! Однако, господа, я живу в России, и мне здесь хорошо!
Хорошо, потому что скверно! Ведь абсолютно хорошо бывает только идиотам и то не всем, – как бы сказал Петр Петрович.
Себя я не могу причислить ни к западникам, ни к славянофилам, однако, если говорить о родине, то лучше вспомнить Лукиана: («Похвала Родине») старая это истина, что нет ничего сладостнее отчизны».
В самом деле, разве существует что-либо не только более приятное, но и более священное, более возвышенное, чем родина, «Ведь всему, что люди считают священным и исполненным высокого смысла, научила их родина».
Один мой знакомый, как ни странно, – верующий человек, как-то заметил с горькой усмешкой: «В России священна лишь грязь».
И опять мне вспомнился В. Розанов: «моя душа состоит из грязи, нежности и света».
Казалось бы, – несоединимое, а в нем, как и во всей матушке России, соединялось все, как ангел и дьявол, как плоть и душа…
А потом, в мире ничего чистого, идеального нет, всегда даже возвышенному и прекрасному чувству предшествует какой-то отрицательный опыт…
Возьмем, к примеру, первую брачную ночь – какой муж лишит свою жену девственности, если у него не будет перед этим первого, пусть и отрицательного, т. е. скажем, по-своему грязного опыта?!
Люди все время говорят о какой-то высшей незапятнанной правде, как правило, выспренным, нарочито красивым, а на самом деле вульгарным языком…
Особенно наглядно это проявляется в политике, где слова – обман и покупка одновременно. Простые смертные очень часто покупаются на возвышенную ложь, как девушки-простушки на заверения своего любимого.

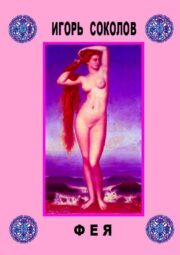
"Фея" отзывы
Отзывы читателей о книге "Фея". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Фея" друзьям в соцсетях.