Демонстрация хороших манер, как и сама церковная служба, прошла без изъянов, и Контини, главный распорядитель и режиссер всего действа, был доволен финалом, достойным, пожалуй, и славнейшего из Висконти. Торжественный уход этих изысканных дам и респектабельных мужчин, в своем роде весьма характерных персонажей, невольно напоминал спектакль в момент, когда актеры второго плана незаметно исчезают за кулисами, уступая главному герою свет рампы.
Участники этого великолепного действа уже покинули церковь, и Мауро Сабелли шагнул вперед, чтобы последним из подданных преклонить колени у ног своей повелительницы, когда у края нефа, слева от него, внезапно показалась хрупкая женская фигурка. На секунду женщина замешкалась, но тут же решительно направилась к Анне. Поступь ее была робкой и нерешительной, точно каждый шаг ей давался с трудом.
– Анна, – прошептала она, остановившись напротив нее, – прости меня.
Женщине было лет пятьдесят, по виду она явно принадлежала к высшему обществу, но в глазах ее, устремленных на Анну, застыли страх и растерянность. Это был страх верноподданной, навлекшей на себя гнев повелительницы и готовой заложить душу дьяволу, лишь бы снова заслужить ее милость.
Анна перевела взгляд на женщину, которая склонилась перед ней, моля о прощении. Они оказались лицом к лицу перед гробом – в зыбком мареве свечей, придававшем этой сцене особую драматичность.
– Мне очень жаль, я искренне опечалена… – опустив голову, робко проговорила женщина. Весь ее облик выражал боль и отчаяние. Свет и тени от колеблющихся свечей пробегали по бледному лбу.
– Надеюсь, – только и ответила Анна.
– Но я прошу у тебя прощения!.. – взмолилась та. – Я заклинаю тебя!..
– Ты прощена, – сказала Анна, помедлив несколько секунд, которые показались вечностью женщине, склонившейся перед ней.
– В самом деле? – с надеждой проговорила она.
– Да, ты можешь вернуться и жить теперь в городе. Анна процедила это сквозь зубы, но голос ее звучал отчетливо и властно.
Женщина выпрямилась и хотела было обнять Анну, но взгляд той дал ей понять, что аудиенция на этом окончена.
– Спасибо, – тихо сказала она и почти на цыпочках удалилась.
Свидетелем этой сцены был только Мауро Сабелли, и этого было вполне достаточно. Анна спиной чувствовала, и она не сомневалась, что сцену эту сегодня же будет обсуждать весь Рим, а именно этого она и хотела.
Легкими шагами, стараясь не нарушать воцарившуюся в церкви тишину, последним покинул ее Мауро Сабелли. «Королева помиловала», – подытожил он про себя увиденное.
Перед капеллой переговаривались в ожидании могильщики, притопывая ногами от холода. Внутри же, под низкими сводами, царила тишина.
Опустившись у гроба на резную скамеечку для коленопреклонений, Анна искала и не находила слов молитвы в своей смятенной душе. Она взглянула на распятие, висевшее над алтарем, с надеждой обрести в суровом облике Спасителя душевный покой, но и это не помогло. Здесь она была наедине с величием смерти, и оно подавляло ее. Не было нужды играть роль, изображая из себя повелительницу, и всякий, кто увидел бы ее сейчас, нашел бы в ней лишь страдающую, растерянную и слабую женщину.
Так вот каково оно, завершение всех земных забот и страданий, забвение бед и тревог? Здесь, в темноте этой ниши, в которой едва различимы блестящий лак и золоченые ручки гроба… Что там, за этим порогом? Какие сны сулит этот вечный покой?..
Она знала, что судить о том, как прожил на этом свете человек, можно лишь после того, как истечет последний миг его жизни, когда он отыграет свою роль до конца, когда Великий Режиссер позволит ему покинуть подмостки. Старик исполнил свою роль безупречно. Она присутствовала при этом финале и видела улыбку на его лице, угасшую лишь в последний миг. Он улыбался ей, стараясь смягчить боль разлуки, и врачи поражались его самообладанию. «Кто умеет в этой жизни владеть собой, тому и смерть не страшна», – говорил он частенько, и достоинство, которое все признавали за ним, даже заклятые его враги, не покинуло старика до самой смерти.
– Я ухожу, Анна, – сказал он ей, и эти слова поразили ее. Никогда она не слышала от него слов прощания – она сама могла куда угодно уехать, но отец никогда не оставлял ее.
– Нет, этого не может быть, – наклонившись, сказала она ему, но старик в ответ лишь грустно кивнул головой.
– Я счастлив, что у меня такая дочь. На тебя только я надеюсь.
При этих словах отец потерял сознание. Профессор Конти, дежуривший у его постели, взял узловатую руку старика и, пощупав пульс, покачал головой. Казалось, все кончено, но дрогнуло еще раз холодеющее лицо.
– Позовите священника, – неожиданно сказал старик.
– Монсеньора Пазини?
– Нет, священника. Любого. Первого, кто попадется. И это были его последние слова.
Анна закусила губу: ей было мучительно больно, но слез у нее не было. За все время после кончины отца она не обронила ни слезинки.
«Хорошая дочь. – Она усмехнулась, глядя перед собой в темноту. – К чему придавать такое значение кровным узам?.. Я не твоя дочь, и ты не мой отец, но разве ты перестал бы любить меня, узнай ты об этом?.. Бог свидетель, я любила тебя так, как ни одна дочь не любила своего отца. Бог свидетель!..»
Она думала об этом так, словно разговаривала с ним, точно он мог слышать ее, а выслушав, понять и простить. Но он ничего уже не слышал. И она знала об этом. И все-таки, сделав это признание, она почувствовала, что ей стало легче, и вышла из капеллы с надеждой, что он услышит ее и простит. А может быть, простит и ее мать, которая построила счастье своей дочери на обмане.
Голубой «Мерседес» медленно ехал по длинной аллее, оставляя две ровные колеи в свежем снегу. В глубине ее, словно под кистью импрессионистов, проступали контуры виллы Караваджо, построенной в классическом стиле с изысканной простотой.
Покинув кладбище, Анна наконец успокоилась, и мысли ее унеслись далеко за океан. Ей захотелось вновь оказаться в летнем Рио-де-Жанейро, который пришлось бросить ради этой миланской зимы. Что может быть прекраснее солнца, горячего песка и шелеста океанских волн с белыми гребешками на великолепных пляжах Ипанемы?!
Вел лимузин атлетического сложения молодой человек, белокурый, с ясными и холодными глазами и крутым подбородком истинного арийца. Его звали Герман Зеебар, а рядом с ним сидел Курт Штайн – такой же тренированный и мускулистый. Эти два немца, ее телохранители, сменяли друг друга за рулем и повсюду следовали за ней, не покидая ни на минуту. Анна давно привыкла к ним, как привыкаешь к собственной тени.
Ее муж, граф Арриго Валли ди Таверненго, выписал этих парней из Берлина, где они прошли специальную подготовку, и с тех пор Анна шагу не ступала без них. Старик одобрил это решение зятя, хотя и с добродушной усмешкой: «С этими гориллами, конечно, она у тебя будет целей». Сам же Чезаре Больдрани, который мог бы содержать не одну армию, никогда не держал телохранителей. Он словно испытывал судьбу, нередко расхаживая по улицам в одиночку, и ни разу с ним ничего не случилось. По поводу его неуязвимости строились всяческие предположения, но правдоподобных объяснений не мог дать никто.
Снег продолжал мягко падать, выбелив всю окрестность, и, глядя на эти белые хлопья, Анна вспомнила другой такой же сумрачный зимний день.
– Герман, остановитесь здесь, – велела она, оглядывая заснеженные поля с внезапным волнением.
Охранник за рулем повиновался, хотя желание хозяйки и показалось ему странной прихотью. Они были одни на безлюдной дороге, место не самое подходящее для прогулок, но немцу платили не за то, чтобы он размышлял над причудами хозяйки, и он тут же нажал на тормоза.
Курт быстро выскочил с правой стороны и распахнул перед ней дверцу. Его серые глаза цепко обшаривали окрестность, рука наготове, чтобы одним движением выхватить пистолет. Герман контролировал другую сторону дороги, которая вела к уже близкой вилле, хотя в окружавшем их белом безмолвии такие предосторожности, пожалуй, были излишни.
Под их настороженными взглядами Анна медленно прошла несколько шагов от дороги, оставляя за собой маленькие следы, и остановилась, подняв воротник своей норковой шубки. Ее густые черные волосы запорошило снегом. Она ощущала прикосновение холодных снежинок – словно бабочки с белыми крыльями порхали вокруг и касались щек. Она закрыла глаза и с наслаждением вдохнула свежий воздух полей, воздух детства, которым она когда-то дышала, как и в тот новогодний день, когда маленькой девочкой, держась за руку матери, она шла к этой вилле, вилле Караваджо, принадлежавшей отныне ей одной.
В городе тогда все напоминало о войне, там рвались бомбы и повсюду зияли руины, а здесь стояла первозданная тишина. Война довела людей до нищеты, и ее мать, красавица Мария, как многие женщины в ту пору, носила поношенную, не раз перешитую одежду. Сама же Анна была в тяжелом суконном пальто, выкроенном из солдатского одеяла, а голова и шея ее были покрыты колючим платком грубой шерсти. Девочка окоченела от холода и выбилась из сил, увязая в глубоком снегу.
– Мамочка, давай вернемся домой, – канючила она. – Мамочка…
Но мать только крепче сжимала ее ручонку в своей большой, привыкшей к работе руке, словно хотела передать ей часть своей силы и уверенности.
– Осталась самая малость. Потерпи еще чуть-чуть, – говорила она, и, зная ее непреклонный характер, девочка терпела. Обессиленная и замерзшая, она покорно брела за матерью, не зная куда.
– Смотри, – вдруг сказала мать, остановившись перед заснеженной виллой в конце аллеи. Здание это было прекрасным, но тогда девочка этого не сознавала. – Смотри!.. – повторила мать с волнением.
– Я вижу, – сказала Анна.
Порывистым жестом Мария привлекла дочь к себе.
– Посмотри, как она великолепна, – с волнением заговорила мать. – Тебе нравится?
– Да, мама, – сказал девочка, чтобы сделать ей приятное.

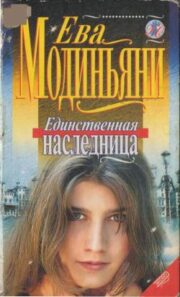
"Единственная наследница" отзывы
Отзывы читателей о книге "Единственная наследница". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Единственная наследница" друзьям в соцсетях.