Лицо ее еще хранило следы короткого ночного сна, а руки уже хлопотливо принялись за работу. Как и все бедные женщины в округе, Эльвира Коломбо, вдова Больдрани, носила простую бумажную юбку, собранную на талии, и ситцевую кофту с засученными рукавами на худых, но крепких руках. Неуклюжие башмаки на деревянной подошве и заштопанные черные чулки довершали этот небогатый наряд. Только мягкие, тщательно расчесанные каштановые волосы, собранные на затылке в пучок, говорили о том, что она не совсем еще махнула на себя рукой.
– Мам, – позвал Чезаре.
– Что? – вполголоса откликнулась она. – Не буди сестру. Пусть еще немного поспит.
Четырнадцатилетняя Джузеппина спала на таком же, как у него, простом ложе: деревянные козлы с двумя досками, на которых лежал такой же матрас, набитый сухими кукурузными листьями, – постель бедняков. Нежное, тонкое лицо ее хранило во сне мечтательное выражение.
– Мам, – прошептал Чезаре, – тебе помочь?
Он шевельнулся – сухие листья под ним зашуршали.
– Поспи еще немного, – сказала Эльвира, жалея сына, которому в пятнадцать лет приходилось каждый день в половине шестого пускаться в путь и шагать восемь километров, чтобы до семи поспеть на фабрику.
– Я уже выспался.
Чезаре отбросил в сторону грубое одеяло, уселся, свесив босые ноги на земляной пол. Он был худощав, но хорошо сложен и развит для своего возраста, а решительное выражение голубых, как у всех Больдрани, глубоко посаженных глаз делало его старше своих лет. Подойдя к окну, он раздвинул жалюзи и выглянул на улицу. Все было как обычно – приземистые скромные дома, поля за дорогой, проходившей мимо их обветшавшего барака, в котором ютилось несколько семей, но каждое утро он окидывал окрестности таким пытливым взглядом, точно ждал от них какой-то волшебной перемены.
– Не открывай, – сказала ему мать, видя, что он собирается приподнять жалюзи.
Она хлопотала у очага, укладывая сухие ветки, которые приготовила с вечера. Затем чиркнула спичкой и поднесла ее к клочку бумаги, подсунутому снизу. Пламя вспыхнуло и начало жадно пожирать хворост в очаге; весело затрещали тонкие веточки, воспламеняя более толстые сучья, пока высокие языки пламени не начали лизать медный котелок для поленты, висящий на черной от сажи цепи.[1]
Смолистый запах горящего дерева распространился по кухне.
– Мам, а ведь сегодня твой праздник, – сказал Чезаре, не отрываясь от окна, прикрытого облупленными и источенными личинками жалюзи.
– Мой праздник?
Для Эльвиры праздником было, если вечером она могла накормить своих пятерых детей и, засыпая в тесной комнатенке с тремя младшими, знала, что у нее есть немного поленты и сала на следующий день.
– Да, мам, твой день рождения.
Чезаре подошел к постели, где спала Джузеппина, и ткнул пальцем в календарь на стене у ее изголовья. Там же висела дешевая картинка, изображавшая гибель «Титаника», и реклама торгового дома «Стукки и K°» с нарисованной на ней швейной машинкой.
– Да, шестнадцатого июня, – проговорила Эльвира.
Она сказала это рассеянно, правой рукой засыпая желтоватую муку в кипящую воду, а левой размешивая поленту. Да, ей исполнилось тридцать пять. Эльвира хорошо помнила конец прошлого века, когда уже появился на свет Чезаре, а в 1900 году, беременная Джузеппиной, она стояла, согнувшись, над корытом, когда прибежала одна из работавших в прачечной женщин с известием, что какой-то анархист убил тремя пистолетными выстрелами в Монце короля Умберто I. Раньше ее муж Анджело приносил домой страницы из газеты «Воскресенье», где были удивительные вещи: рисунок машинки, которая шьет сама при помощи электрической энергии, чудесное приспособление для сушки волос и даже изображение посудомоечной машины, которая заводилась вращением рукоятки. Но Анджело умер от двустороннего воспаления легких, и с тех пор изредка доходили до их дома, стоящего за Порта Тичинезе, пожелтевшие страницы старых газет, которые Джузеппина тут же прикрепляла к стене над своей постелью. Это были вести из другого мира. Сама же Эльвира, у которой была только одна старенькая шаль, мечтала о вязаной кофте, но она не смела даже выказать такое желание. Шел 1914 год, и ее юбкам было по крайней мере десять лет.
– Вечером я принесу тебе цветы, – пообещал Чезаре, надевая брюки из грубой бумазеи и застегивая ремень. Он был еще мальчик, но одевался как мужчина, а ситцевая рубашка в полоску, которую он надевал поверх изношенной и заштопанной майки, была с отцовского плеча.
– И не думай об этом, – сказала Эльвира ворчливым тоном, но на душе у нее потеплело.
Рассвет уже высветлил улицу, но солнце еще не взошло. Розоватый свет, зарождающийся на востоке, ласкал окно их кухни. Чезаре подошел к матери, ощущая исходящий от нее уютный запах домашнего очага. На лбу у нее выступили маленькие капельки пота, который она время от времени смахивала тыльной стороной руки. В душе Чезаре еще хранилась чудесная память детства об объятиях матери, о ее мягкой нежной коже, пахнущих мятой губах. Ему хотелось обнять мать, прижаться к ее груди, но он не осмелился, зная, что Эльвира оттолкнула бы его. Ее сдержанность и суровый характер, замешенный на старинных крестьянских традициях, исключали для старших детей какие бы то ни было ласки и нежности.
На колокольне церкви Сан-Лоренцо пробило половину пятого. Эльвира сняла с крюка котелок, перенесла его на стол и разложила по мискам дымящуюся поленту.
– Хватит на весь день, – удовлетворенно сказала она, и улыбка на миг осветила ее лицо. Быстро собрав большой узел, мать направилась в прачечную, толкая перед собой тележку с бельем, стирая которое, она могла заработать самую малость, чтобы прокормить пятерых детей. Зимой она уходила туда еще затемно и начинала стирать при свете свечи, а летом, когда светало рано, работа казалась менее тягостной.
Чезаре проводил мать до колонки с водой, а дальше она пошла одна, он же, наполнив цинковое ведро, энергично вымыл лицо и шею, с фырканьем расплескивая воду. Соседи тоже давно проснулись, их громкие голоса доносились из окон. Мужчины запрягали волов, чтобы ехать в поле. Несколько косарей, начавших работу спозаранку, шли по лугу навстречу восходящему солнцу, ловко скашивая первую летнюю траву. В воздухе уже стоял запах свежескошенной травы.
Вытершись грубым холщовым полотенцем, Чезаре вернулся в дом. Джузеппина еще спала, и ее сухое покашливание во сне напомнило ему кашель отца, умершего от воспаления легких. Чезаре достал из буфета кусок сала, пожелтевший по краям от тепла, срезал кусочек: прогорклый запах исчез, открылась белая мякоть, ароматная, с розовыми прожилками. Он снял с сушилки над раковиной сковороду, бросил в нее кусок сала и поставил на уголья. Когда сало начало растапливаться, положил на сковороду немного поленты и старательно перемешал, чтобы она пропиталась ароматным растопленным салом. С горячей полентой он вышел во двор, сел на скамейку у двери и, положив доску на колени, пристроил на ней сковородку, которая еще постреливала капельками растопленного сала и, остывая, шипела. Запах свежескошенной травы, падавшей под блестящими лезвиями остро отточенных кос, и аромат поленты с жареным салом, смешиваясь, доставляли ему особое удовольствие, и, отправляя в рот ложку за ложкой, он чувствовал себя совершенно счастливым.
Но, увы, через минуту сковорода была пуста. Когда жив был отец, на завтрак доставался и стаканчик разбавленного водой вина, но теперь вино для них было роскошью, и приходилось сдабривать воду из колодца каплями уксуса. Запив поленту стаканом воды, Чезаре почувствовал, что сыт и доволен. Когда он вернулся в дом, колокола пробили пять. Джузеппина еще спала. Он подошел к ее постели и слегка тронул сестру за плечо.
– Я ухожу, – сказал он.
Девушка раскрыла глаза, такие же темные и нежные, как у матери, и приподнялась на локте. Длинные черные волосы обрамляли ее прелестное лицо, мягкие губы улыбались, словно извиняясь, что она спала дольше, чем обычно.
– Увидимся вечером, – проговорила она нежным голосом, слегка охрипшим спросонья.
Глядя на свою хрупкую, беззащитную сестру, Чезаре всегда ощущал себя сильным и решительным, настоящим мужчиной. Ему хотелось обнять ее, чтобы передать девочке немного своей силы и уверенности, но в их семье это было не принято. Они любили друг друга нежно, но это никак не выражалось жестом или словом.
Простившись с сестрой, Чезаре вышел и закрыл за собой дверь кухни. Во дворе он обогнул низкую изгородь из бузины, за которой тянулся огород, и прошел в деревянный сортир, сколоченный из старых прогнивших досок. Жирные радужные мухи ползали здесь по дощатым стенкам и жужжали в воздухе, наполненном вонью, но все в доме к этому привыкли. Частенько, сидя здесь, Чезаре думал, как хорошо бы разбогатеть, а верхом благополучия для него, мальчика, было владеть домом и конюшней. И первым делом он избавил бы Джузеппину от тяжелого домашнего труда, а мать – от каторги в прачечной.
Блестящая назойливая муха села на тыльную сторону его левой руки. Молниеносным движением он поймал ее правой рукой и швырнул о стенку. Это был добрый знак, что-то вроде удачного гадания, и когда Чезаре, выйдя на улицу, вдохнул свежий воздух, аромат полей показался ему еще приятней и сладостней.
Солнце встало, и все было залито ярким светом. Чезаре снял с себя тяжелые кованые башмаки, связал их вместе шнурками и перекинул через плечо. Башмаки еще крепкие, и не стоило трепать их каждый день по дороге; лучше босые ноги, которые никогда не изнашиваются. Чтобы быть на работе к семи, ему приходилось шагать по два часа до фабрики фонографов, где он и работал. Чезаре платили лиру и двадцать чентезимо в день, и это было неплохо – ребята его возраста зарабатывали всего лиру. Но он был ловок и силен и никогда не уставал, орудуя молотком.
Через скрытый в бузине лаз Чезаре забрался в огород, сорвал три крупных красных помидора и сунул за пазуху. А по дороге зашел в булочную и купил на пять чентезимо желтого хлеба, еще горячего, прямо из печки. Остановился на обочине, вынул из кармана большой клетчатый платок и завернул в него хлеб и помидоры.

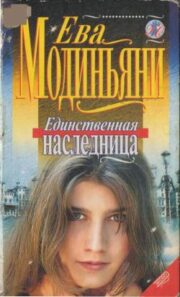
"Единственная наследница" отзывы
Отзывы читателей о книге "Единственная наследница". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Единственная наследница" друзьям в соцсетях.