– Немедленно позови принцессу Михримах и скажи, чтобы взяла с собой детей и служанок.
– Уже сделал, Хасеки Хуррем.
Сообразительный…
А в комнату входила Михримах, она единственная имела право вот так вторгаться в покои султанши – почти без стука и без разрешения.
– Что случилось, матушка?
– Где дети?
– Со мной. Что-то с Рустемом-пашой? Или с Повелителем?!
– Нет.
Сделала знак кизляру-аге, чтобы удалился, тот юркнул за дверь, из коридора послышался его высокий тонкий голос, евнух с удовольствием отдавал распоряжения.
В дверь тихонько вошла служанка:
– Госпожа, Нурбану просит разрешения войти.
Роксолане совсем не хотелось сейчас объясняться с венецианкой, но она согласно кивнула:
– Пусть войдет.
Михримах, которая откровенно недолюбливала яркую венецианку, поморщилась:
– Может, потом?
– Я должна ей кое-что сказать. Послушай и ты, потом поговорим наедине.
Нурбану вошла, как полагается – опустив голову и сложив руки на животе:
– Хасеки Хуррем, почему в гареме переполох?
Роксолана сделала знак служанкам удалиться и также знаком подозвала обеих женщин к себе. Не время делиться на своих и чужих, слишком серьезные события.
И вдруг горько усмехнулась, сообразив, как в этот момент похожа на валиде Хафсу, небось, и губы так же поджала, превратив в ниточку.
Сообщила о казни Мустафы. Михримах и Нурбану отреагировали по-разному. Обе ахнули, но Михримах испуганно, потому что ее первой заботой был Рустем-паша, понимала, как тому сейчас опасно. А вот Нурбану с трудом сумела спрятать под опущенными ресницами довольный блеск. Конечно, ведь Селим становился наследником, следующим султаном.
Этих трех женщин новость объединяла и разделяла одновременно. Все три зависели от Повелителя, решившегося казнить зарвавшегося старшего сына, все три выигрывали от этой казни, но каждая по-своему. И все три беспокоились за мужей.
– До возвращения Повелителя из дворца никуда, и ты тоже будешь сидеть с детьми здесь, – Роксолана обернулась к Нурбану. – Ехать куда-то опасно. Не болтайте даже со своими служанками.
– А кто сообщил? – не удержалась Михримах.
– Твой муж Рустем-паша. Но коротко, одной строчкой. Кизляр-ага сказал, что в армии бунт. Повелитель справится, но нужно время.
И снова Роксолану по сердцу резанул заинтересованный блеск глаз Нурбану. Вот кто переступит через их трупы, если что-то случится!
Кивнула невестке:
– Иди, займись детьми. Михримах, останься, нужно обсудить, как пока быть со строительством.
Сказала и поняла, что Нурбану этим не обмануть, невестка умна, ох, как умна. Но Роксолане безразлично, ей не до хитрой Нурбану, кизляр-ага умен, он не выпустит кадину Селима из дворца, а здесь пусть блестит глазами сколько влезет.
Михримах с трудом дождалась, пока Нурбану уйдет.
– Матушка, что же случилось в действительности?
А Роксолана вдруг успокоилась. Что бы там ни произошло, запереться во дворце, спрятаться означает признать свою вину в том, чего не делала, свой испуг, свой страх. Ну, уж нет! Внуков спрятать – это одно, а им с Михримах скрываться не стоит.
Чуть приподняла бровь:
– Михримах, я сказала все, что знаю. У нас с тобой действительно много дел, которые мы не должны бросать из страха перед несправедливыми обвинениями.
И все, умной Михримах ничего больше объяснять не нужно, она все поняла, как поняла и то, что мать права.
Они отправились смотреть, как идет строительство очередной столовой.
– Хасеки Хуррем, удвоить вашу охрану?
Роксолана весело сверкнула глазами на главного евнуха:
– Зачем? Я вины за собой не знаю, а ты? – она обернулась к Михримах. Принцесса недоуменно пожала плечами:
– Какой вины, Хасеки Хуррем?
Конечно, Стамбул уже знал, конечно, кричали, угрожали, но стоило двум маленьким женщинам, закутанным в ткани, ступить на землю из носилок и сверкнуть на толпу глазами сквозь прорези яшмаков, как вокруг стихли.
– То-то же, – мысленно усмехнулась Роксолана. – Прикажу землю перед собой целовать – будете целовать! Чернь неблагодарная.
Впервые за много лет она смотрела свысока, почти презрительно, готова была попирать ногами тех, кто в ответ сверкал глазами исподлобья, не рискуя поднять голов.
Строилась не первая столовая, уже действовали имареты (богадельни) не только в Стамбуле, но и в Эдирне, строились в Андреаполе, в Анкаре… Больницы, бесплатные столовые, медресе, школы для девочек, щедрая раздача милостыни и просто хлеба…
Но это все не в счет, этого те, кто готов ударить в спину, не замечают, они знают одно: гяурка околдовала их султана и превратила его в игрушку!
Что делать, кричать, что она мусульманка уже больше тридцати лет? Что считать падишаха способным безоглядно подчиняться чьему-то влиянию оскорбительно для самого падишаха? Что ничего плохого тем же жителям Стамбула, да и всем подданным Османской империи не сделала?
Можно кричать сколько угодно, чем громче будешь это делать, тем меньше будут верить. Когда-то ей сказал это Повелитель, Роксолана поняла, что он прав. А потому оставалось только одно: строить и строить, следить, чтобы в столовых всегда была хорошая еда, чтобы не иссякла помощь бедным и нуждающимся в ней. Не ради благодарности, она поняла, что таковой уже не стоит ждать, а ради них самих.
И вырвавшееся даже мысленно ругательство нужно забыть. Да, чернь, да, завидуют и ненавидят непонятно за что, но если изменить не в силах, то и замечать не стоит. Даже разумный Яхья-Эфенди, молочный брат Повелителя, и тот ее не признал, что же говорить о других?
Прошли те времена, когда Роксолана пыталась понять почему, за что ненавидят, что сделала в жизни не так, чего не доделала. Осознала бесполезность попыток понравиться, завоевать уважение, хотя бы признание заслуг, смирилась с этой нелюбовью чужих, тех, кто верит больше слухам на рынке. Стала просто жить, так, как подсказывала совесть, недаром пословица твердит, что бесполезно бороться с ветром, размахивая в ответ руками.
Все равно тревога не отпускала, сердце словно предчувствовало какую-то беду. Что там, у Повелителя?
Холодный ноябрьский ветер не позволил женщинам долго расхаживать, убедившись, что строительство идет достаточно быстро, Роксолана позвала дочь в носилки:
– Пойдем, еще дома дел много…
Когда сели внутрь и закрыли шторки, Михримах не выдержала:
– За что они нас ненавидят?
Роксолана спокойно ответила:
– Не нас, а меня. Тебя немножко вместе со мной.
– А вас за что?
– За то, что не хочу быть как все. Не верят, что можно любить без корысти, не разбрасывать деньги горстями, чтобы видели, какая добрая, а строить столовые и жертвовать на продукты для них, кормить тех, кому есть нечего.
– Может, лучше разбрасывать?
– Нет! Если даже горстями швырять золото в толпу, оно достанется не самым слабым, а самым юрким и сильным, тем, кто сумеет отшвырнуть остальных и дотянуться до милостыни. Это говорил еще мой отец. Нужно не давать деньги, а давать еду, чтобы всем, кому она нужна, чтобы любой, даже самый слабый мог прийти и поесть, а не искать в пыли завалявшуюся денежку. Это не так красиво, зато действительно помогает.
Михримах вздохнула:
– Зато за имареты и столовые не благодарят…
– А ты делаешь ради благодарности? Тогда действительно швыряй деньги в толпу. Хотя и тогда скажут, что награбила столько, что можешь позволить себе разбрасывать золото.
Некоторое время Михримах молчала, потом тихонько поинтересовалась:
– Когда вы поняли это, матушка?
– Когда однажды увидела, как затоптали старика в толпе, и поняла, что таким как он никогда ничего не достанется, что им нужно давать прямо в руки, иначе отберут другие. Более сильные и прыткие.
– Вы любите нищих?
– Нет! Но если они существуют, то им надо помогать.
Они еще долго сидели, выверяя счета, потому что и в благотворительности немало воровства, каждый норовил урвать себе хоть кусочек. Нет, не так, каждый новенький, потому что, уличив однажды в обмане, султанша больше не желала иметь с обманщиком дел, независимо от того поставлял ли он дерево для строительства или муку в столовые, пряжу для ткацких мастерских или мыло для общественных бань. Она не объявляла об этом, просто находила других поставщиков.
Конечно, обманывали, но быстро выявились те, кто честен больше остальных, такие оставались поставщиками надолго.
Счета, счета, счета… Жалобы или прошения, донесения… а еще переписка, например, с королем Польши… разве это женское дело? Но кому выполнять такую работу, как не ей? И чем ей заниматься, как не такой работой, спать, кушать и болтать языком?
А сердце все ныло и ныло…
– Госпожа…
Снова кизляр-ага, и снова какая-то ужасная весть, потому что глаза прячет больше прежнего.
– Что?!
Не сдержалась, даже не дождалась, когда служанки выйдут. И евнух ждать не стал.
– Шехзаде Джихангир… он умер…
– Умер? Джихангир умер?!
Вот оно, вот почему сердце неспокойно. Конечно, Джихангир не самый сильный, не самый здоровый из ее детей, даже не так: он самый слабый и больной, но ведь лекари, которых приставили к младшему принцу, ничего такого не сообщали. Не хуже, чем всегда. Лекари лгали или что-то случилось?
– Чем был болен шехзаде?
– Он… он…
– Да говори же!
Когда-то не то что крикнуть, глаз не могла лишний раз на главного евнуха вскинуть, и дело не в том, что евнух давно новый, прежний ушел на покой, просто соотношение у них иное.
– Шехзаде умер от тоски по казненному брату.
Так и не вышедшая из комнаты Нурбану ахнула. Роксолана только зыкнула на невестку взглядом, та притихла, как мышь в норе.
Хотелось крикнуть, что это ложь, что не так уж были дружны Джихангир и Мустафа, не столь любил младший принц старшего, чтобы от тоски умереть через две недели.

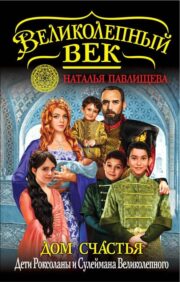
"Дом Счастья. Дети Роксоланы и Сулеймана Великолепного" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дом Счастья. Дети Роксоланы и Сулеймана Великолепного". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дом Счастья. Дети Роксоланы и Сулеймана Великолепного" друзьям в соцсетях.