Мустафа родился третьим и если бы третьим оставался, отец и сын любили бы друг друга. Но на троне место только одному, и сейчас предстояло решить, кто из них будет этим одним.
Встретившись взглядом с Повелителем, Мустафа понял, что не только не сможет диктовать свою волю отцу, он уже ничего не сможет. Понял, что проиграл.
Это было мгновенное понимание, дольше не получилось, видно султан отдал приказ дильсизам загодя…
Сулейман вообще не хотел присутствовать при расправе с Мустафой, но он знал одно: то, что происходит в шатре, становится как-то известно за его пределами. Дильсизы немы, но видно есть другие глаза и уши, чтобы увидеть, другие языки, чтобы рассказать. И то, что шехзаде казнят в отсутствие отца, узнают все. Это сродни трусости, если уж решился, должен решиться и смотреть на это, не отводя взора.
Он решился, сидел на троне прямой и строгий, глядя в пол. Знал, что может сделать последний жест, отменяющий казнь, дильсизы предупреждены.
Когда Мустафа вошел, Сулейман краем глаза заметил его полупоклон, понял, что не с миром идет к нему сын, понял, что мир между ними невозможен и его не будет. Медленно вскинул глаза.
Два взгляда встретились. Во взоре Мустафы Сулейман прочитал готовность идти до конца, уверенность человека, который уже видит себя на троне. И не сделал отменяющего знака.
Во взгляде отца сын прочитал смертный приговор, забился, задергался в сильных руках дильсизов, задыхаясь в накинутой на шею петле из зеленого шелкового шнурка.
В Амасье Махидевран замерла на месте, широко раскрыв глаза.
Румеиса, любимая наложница шехзаде Мустафы, бросилась к ней:
– Что, госпожа, что с вами?
– Не знаю, что-то плохое случилось.
Весть о казни шехзаде Мустафы прилетела в Халеб нескоро. Услышав об этом, Джихангир едва не упал. Случилось то, чего он боялся больше всего – письма попали в руки султану, который имел право казнить наследника только за одну печать «Султан Мустафа». Даже не просто имел право, но и был обязан сделать это.
Если бы Джихангир не сам передал эти письма, просто пожалел бы о предательстве Мустафы и все, но сейчас он чувствовал себя с одной стороны, соучастником этого предательства (ведь именно ему отдал письма Мустафа), во-вторых, чувствовал себя предателем по отношению к казненному старшему брату.
Он предал того, кому клялся, и теперь Мустафы нет, султан казнил достойнейшего из наследников. Разве можно Селима сравнить с Мустафой?
Джихангир стонал, в тоске по загубленной жизни Мустафы и своей тоже, катался по ложу, стискивая голову руками, скрипел зубами, рыдал.
Приставленные к нему надсмотрщики считали, что это из-за отсутствия отравы, никому не приходило в голову, что Джихангир как-то причастен к казни Мустафы. Но постепенно поняли, слишком часто среди стонов шехзаде слышалось имя казненного.
Джихангир страдал так, как не страдал никогда в жизни. Стремясь уничтожить все, что связано с Мустафой, он добрался и до заветного мешочка с дурманом. Рука сама потянулась открыть, чтобы опьянение окутало, защитило от страшных мыслей, чтобы провалиться и ничего не помнить.
Глотнул один шарик, потом второй… Не помогало, слишком был возбужден, слишком истерзан. Он не чувствовал, что уже одурманен, мысли все еще не давали покоя, бились в голове, словно только что пойманные птицы. Они скребли мозг и заставляли стонать от невыносимой боли. Высыпав на ладонь оставшиеся шарики, Джихангир, уже мало понимая, что делает, проглотил и их.
Упал на ложе, стиснув раскалывающуюся голову руками, лежал, в ожидании облегчения, приятных видений и радостного полета, но полета не получилось.
Шехзаде Джихангир уснул… уснул вечным сном.
Обнаружили это только на следующий день. Надсмотрщики, довольные тем, что шехзаде не мечется и спит, не беспокоили его до самого утра, а когда поняли, в чем дело, было поздно…
Понеслось: шехзаде Джихангир умер в Алеппо от тоски по брату шехзаде Мустафе, с которым в последний год был очень дружен.
Все поверили, от тоски умирают многие, тем более, его окружение в Алеппо видело, как мучился, метался, страдал шехзаде в последние дни. Никто не усомнился в причине страданий, о наркотиках не упоминали, а о письмах и вовсе никто, кроме Рустема-паши, не знал.
Но Сулейман что-то почувствовал, вдруг вспомнил, что так и не спросил Рустема-пашу, откуда у него те письма.
Рустем снова прятал глаза. У Сулеймана шевельнулось нехорошее подозрение:
– Они поддельные?!
– Нет, Повелитель, нет!
– Тогда скажи, кто передал. Говори!
Рустем понял, что сейчас либо нарушит данное Джихангиру обещание, либо потеряет голову. Предпочел сделать первое, достал из-за пазухи письмо шехзаде, протянул султану.
И снова у Сулеймана потемнело в глазах. Вот почему умер Джихангир, вот зачем он был нужен Мустафе! Сжались в бессильной ярости кулаки, смяв послание младшего сына. Ярость была еще и оттого, что не к нему, а к Рустему-паше обратился Джихангир. Потом подумал, что правильно сделал, к нему мог и не успеть. Но отчаянье, что один сын использовал и погубил другого, самого беззащитного, самого доброго и доверчивого, заставляло скрипеть зубами несколько дней.
Армия бунтовала, требуя наказать Рустема-пашу, виновного в гибели Мустафы, потому что тот показал Повелителю подложные письма. У Рустема-паши право сказать правду, но что это будет за правда! Не просто горькая, а свидетельствующая, что в султанской семье не просто разлад, а ненависть, губящая всех.
– Рустем-паша, ты можешь сказать правду перед всеми, но заклинаю тебя: молчи. Уезжай в Стамбул, твое время еще придет, нужно дать время всему успокоиться. – Чуть помолчал и добавил: – А еще Стамбулу нужна защита, я не могу верить никому.
Точно знал, что произойдет в следующие месяцы уже не на востоке в очередном походе против Тахмаспа, а на севере в Румелии, спокойной и крепкой Румелии, которая едва не станет источником гибели султана, как когда-то стала местом, откуда начал свой поход его отец султан Селим против своего отца султана Баязида.
– Да, Повелитель, я уеду и буду молчать.
– Даже Хасеки Хуррем не говори.
– Я понял, Повелитель.
– Госпожа…
Весь вид кизляра-аги демонстрировал важность предстоящего сообщения, а еще его испуг.
У Роксоланы, которая возилась с внучкой, улыбка сползла с лица, сердце ухнуло вниз:
– Что случилось?
Кизляр-ага стрельнул глазами влево, вправо, словно показывая, что не мешало бы удалить присутствующих.
– Оставьте нас одних…
Служанки исчезли, словно их и не было в комнате, внучку тоже унесли.
– Что случилось?
Евнух топтался, словно не решаясь сказать что-то очень важное. В глазах все так же метался испуг.
Роксолана невольно отметила, что это испуг, но не ужас. Пока из комнаты уходили последние девушки и за ними страшно медленно закрывалась дверь, султанша успела передумать многое. Что-то с Сулейманом?! Но тогда кизляр-ага был бы не просто испуган, для него, как и для нее, это гибель, едва ли евнух стал бы вот так тянуть. Рустем-паша? Кто-то из шехзаде?
– Что?! Говори уж, наконец!
Кизляр-ага приблизился, зашептал почти невнятно:
– Повелитель казнил шехзаде Мустафу…
– Что?!
Но евнух уже опустил глаза и протягивал письмо, пухлая, женственная рука подрагивала. Роксолана почти разорвала, вскрывая, печать как назло не желала отставать от бумаги быстро.
Сообщение от Рустема-паши. Зять писал, что султан действительно казнил старшего царевича за измену. Подробности не сообщал. Это было немыслимо, ни для кого не секрет, что Мустафа готов сместить отца с трона, султан уже однажды простил старшему сыну такое намерение, всего лишь отправив из Манисы в Амасью, но теперь решился на казнь?
Это нужно было осмыслить, Роксолана махнула рукой евнуху:
– Иди…
Но тот топтался, видно знал что-то, чего не было в письме.
– Что еще знаешь?
Зашептал, заторопился:
– Обнаружились письма шехзаде Мустафы персидскому шаху и еще сербам, в которых он обсуждал страшное… Повелитель вызвал шехзаде к себе и велел казнить. В войске бунт…
Еще бы. Мустафу уже видели следующим султаном, а тут вдруг казнь.
– А Повелитель?
Конечно, первая мысль о нем, потому что пока Сулейман у власти, и они живы. Но опасение тут же отступило, не полегчало, нет, но как-то успокоилось. Единственный, кто мог претендовать на трон кроме Сулеймана и ее сыновей – Мустафа, если он казнен, то бояться больше некого.
Когда Махидевран уезжала в Манису, куда султан перевел Мустафу по просьбе самой Роксоланы, она обещала внушить сыну доброе отношение к братьям, обещала, что Мустафа, став султаном, не применит закон Фатиха. Роксолана и тогда не очень поверила, что у давней соперницы что-то получится, одно дело примириться с Махидевран и совсем иное попытаться примирить их сыновей. Одно неосторожное слово, брошенное даже невзначай, снова разожжет вражду, потому что все они соперники за власть. Пожалуй, только Джихангир никому не страшен.
А потом столько всего произошло…
И вот теперь Мустафы нет. Сулейман решился казнить старшего сына, любимца янычар? Он не мог не понимать, что это вызовет бунт в армии. Султан способен предвидеть если не все, то многое, уж это понимал прекрасно. Если решился, значит, знал, что делает. Или просто не было другого выхода?
Кизляр-ага развел руками:
– Больше ничего не знаю, Хасеки Хуррем.
– Хорошо, иди. И пока никому ничего не говори.
Евнух странно замялся.
– Разболтал уже?
– Нет, но и без меня известно, что шехзаде Мустафа казнен.
А вот это плохо, это означало прямую угрозу ее собственной если не жизни, то свободе. А еще Михримах и внуки…
Мысли заметались в голове. Селим в Манисе, и у него достаточно охраны… Баязид с отцом… Да, в Стамбуле только Михримах. Ее муж с Повелителем. А еще Нурбану с младшими детьми.

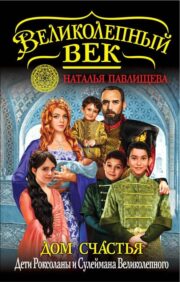
"Дом Счастья. Дети Роксоланы и Сулеймана Великолепного" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дом Счастья. Дети Роксоланы и Сулеймана Великолепного". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дом Счастья. Дети Роксоланы и Сулеймана Великолепного" друзьям в соцсетях.