— Это он?
— Курия Юлия, — благоговейно ответил Марцелл. — Или Сенат, как выражаются горожане.
Ступени были покрыты грубыми рисунками, причем на некоторых из них можно было различить портрет Цезаря. Изобрази кто-нибудь мою маму в подобном виде, она бы любой ценой разыскала виновных и устроила публичную казнь. Октавиан не побеспокоился даже о том, чтобы избавиться от этих рисунков перед собственным триумфом. У лестницы, поднимающейся к бронзовым дверям, Марцелл остановился и сокрушенно промолвил:
— Нам туда нельзя.
— Почему?
— Мы слишком юны, а женщины в Сенат вообще не допускаются. Но ради вас было сделано исключение.
Мы с братом испуганно переглянулись.
— И что мы там будем делать? — спросил Александр.
— Посидите, пока дядя произнесет речь. После нее и начнется шествие. Я поеду в нескольких шагах от вас, — прибавил он в качестве утешения.
— На плотике?
— На коне. По правую руку от Цезаря.
Самое почетное место.
— Идем, — сказал Агриппа, и мы поднялись вслед за ним по ступеням.
Обернувшись через плечо, я увидела ободряющую улыбку Марцелла.
— Вот это и есть Сенат, — объявил полководец, когда мы вошли. — Еще слишком рано, поэтому здесь ни души. Вскоре тут яблоку негде будет упасть.
Длинные деревянные скамьи поднимались вверх ярусами. Напротив дверей располагалось возвышение, с которого Цезарю предстояло произнести речь. Александр вытянул шею и огляделся вокруг.
— Сколько же в Риме сенаторов? — полюбопытствовал он.
— Около тысячи, — произнес Агриппа.
— И всем хватает места?
— Нет. Некоторым придется стоять позади.
Мы прошли вперед, и полководец посторонился, давая нам с Юбой подняться на три ступеньки вверх. У помоста стояла накрытая тканью статуя.
— Это она? — спросил Октавиан, обращаясь к своему соглядатаю.
— Богиня Виктория, — кивнул тот. — Изваяна два с половиной века тому назад в Таренте. Подлинник. Сохранилась в неприкосновенности.
Октавиан сдернул покрывало, и мы с Александром невольно шагнули вперед.
— Вылитая Ника, — шепнула я по-парфянски. — Наша богиня победы. У этих римлян есть хоть что-нибудь свое?
Брат ущипнул меня за руку, и все равно я радовалась, что когда сенаторы заполнят здание, им волей-неволей придется смотреть на творение грека.
И вот они хлынули внутрь многоголосым гулким потоком, приветствуя друг друга поднятыми ладонями. Мужчины в пурпурных и белых тогах, каждый со свитком под мышкой и с венком на голове, принялись рассаживаться на скамейках. На помосте было всего пять мест. Агриппа велел нам сесть слева, так чтобы правой рукой он мог в любую минуту вытащить меч. Александр оказался рядом с Октавианом; по другую сторону посадили Юбу. Цезарь погрузился в свои заметки, зато его охранник пристально изучал толпу. Стоило кому-нибудь кашлянуть, или подняться, или просто наклониться за укатившимся свитком — ничто не ускользало от внимания полководца.
Когда в Сенате не осталось свободных мест, Агриппа откашлялся.
— Пора.
Октавиан разгладил тогу на коленях и развернул дрожащими пальцами свиток, полученный от Ливии. Почему он волнуется? — удивилась я. Ведь это его народ, его победа, его Сенат. Впрочем, глаза Цезаря были полны решимости. Вот он поднялся, и все утихло. Несмотря на столь ранний час, в здании стояла нестерпимая духота. К счастью, двери оставили распахнутыми, чтобы сыновья сенаторов могли снаружи наблюдать происходящее.
— Patres et conscripti[12], — по всей форме воззвал к собравшимся Октавиан, — если вы и ваши дети благополучны, значит, все в порядке. Потому что я и мои легионы весьма благополучны.
Послышался одобрительный гул, хотя Цезарь еще не сказал ни единого важного слова. Потом речь зашла о завоевании Далмации, о победе при Акции и наконец о присоединении Египта, который отныне из царства, управляемого Сенатом, превратился в личную собственность Октавиана.
— Ибо Марк Антоний покрыл себя позором на улицах Египта. Покрыл себя позором в александрийском дворце. Запятнал себя, позволив иноземной царице повелевать легионами Рима. Настало время смыть этот позор!
Его слова потонули в громких аплодисментах. Я взглянула на брата. Тот побледнел точно полотно, из которого был пошит его церемониальный передник.
— Начиная с нынешнего дня имя Марка Антония будет стерто из анналов. С Форума уберут его статуи. И никому из клана Антониев не дозволяется называть сына Марком, доколе в Риме существует Сенат.
Все вновь одобрительно зашумели.
— Наконец, день рождения этого изменника я объявляю nefastus — днем неблагополучным, когда никто не вправе вести какие-либо публичные дела!
Здание взорвалось ликующим ревом, и я поняла: предложение с радостью принято. Октавиан посмотрел на Агриппу и улыбнулся. Рука, державшая свиток, уже не дрожала.
— В свете последних побед, — продолжал он, — некоторых из вас удивляет отсутствие новых рабов. Полагаю, вы помните времена, когда Юлий Цезарь завоевал Галлию и доставил в Рим сорок тысяч белокурых варваров. И что же? Теперь любая из наших женщин желает иметь такие же волосы. Однако я не потерплю, чтобы римлянки разрисовывали себя, точно александрийские блудницы! Если уж им так нравится роспись, пусть украшают виллы. Пусть покупают египетские статуи. Но граждане Рима всегда будут походить на римских граждан!
Последние слова были встречены оглушительными хлопками.
— В нашем городе не построят храма Исиды. Пусть римляне почитают римских богов. Что касается сенаторов, я предлагаю увеличить им жалованье. Ибо есть ли работа почетнее, нежели вести за собой людей, принимая решения, которые будут влиять на их жизни?
Собрание одобрительно загудело.
— Мы с вами встречаем рассвет новой, прекрасной эры. Впервые за сотни лет воцарился мир, и процветание не заставит себя долго ждать. Я готов оплатить из собственного кармана не только пожарные отряды, но и когорты стражей общественного порядка, а также увеличить число людей, получающих бесплатное зерно, от трехсот тысяч до четырехсот тысяч в год.
Голос Октавиана все громче звучал над Сенатом, и я поняла, что и это часть представления, способ завлечь римских граждан в рабство без цепей.
— В честь каждой из наших побед или даже личных достижений, — продолжал он, — я призываю каждого внести свою долю в строительство нового Рима. Мой полководец Тит Статилий Тавр возводит первый каменный амфитеатр. Мой консул Агриппа вложил деньги в сооружение бань, уже успевших принять десятки тысяч человек, а теперь занимается Пантеоном, величайшим в истории храмом для поклонения сразу всем нашим богам. Луций Марций Филипп перестраивает святилище Геркулеса Мусагета. А что возведете вы? — с нажимом спросил Цезарь. — На каких стенах вечно будет написано ваше имя?
Сенаторы радостно оживились. Во время речи не прозвучало ни слова о наказании тех, кто поддерживал моего отца, да и вообще ни о чем, кроме нового Рима.
Октавиан величественно наклонил голову, и тут все вокруг пришло в движение.
— В чем дело? — обратилась я к Александру.
— Триумф начинается, — ответил Агриппа.
За стенами Сената разом взревели рога. У помоста возник пожилой мужчина с золотыми цепями в руках.
— Это для детей.
Я посмотрела на Агриппу.
— Только на время шествия, — пообещал он.
Мы вытянули руки, как было сказано, и у меня на ресницах блеснули предательские слезы. Полководец надел цепи Александру, а потом обернулся ко мне, старательно избегая смотреть в глаза. «Его дочка Випсания всего на четыре года младше меня. Наверное, он представил ее на моем месте, в таком же унизительном положении» — подумала я. Агриппа проверил, достаточно ли свободно цепи держатся на наших руках. Один из сенаторов улыбнулся, взглянув на нас, и я усилием воли сдержала рыдания, готовые прорваться наружу.
Мы последовали за Октавианом через двойные двери на Форум. Стыд не давал мне смотреть на брата; оставалось лишь кожей чувствовать, что он здесь, рядом. Когда я споткнулась, наступив на край туники, Юба резко бросил в спину:
— Иди, не останавливайся.
— Иду, — огрызнулась я.
— Можешь? Значит жива. Ну так и перестань себя жалеть.
На улице многотысячная толпа танцевала и пела под звуки флейт. Солдаты силились не подпускать плебеев к сенаторам, но, разумеется, тщетно. Сквозь шум и гвалт Юба провел нас к деревянному помосту, оформленному в виде египетского чертога. Поднимаясь по лестнице впереди меня, брат отчего-то замер. Я проследила за его взглядом. Над нашими головами высилось ложе. Там возлежала восковая фигура мамы. С чучелом кобры, свернувшимся между грудей.
— Не смотри туда, — прошипел Александр. — Они хотят, чтобы мы рыдали на глазах у целого Рима.
Я закусила губу и ощутила привкус крови. Юба указал нам на позолоченные престолы рядом с изображением покойной матери.
— Сидите смирно. Даже не думайте попытаться бежать.
Сверкнув глазами, я промолчала, но он продолжал, как если бы у меня вырвалось «а иначе?».
— Сегодня город кишит солдатами. Любой из них будет счастлив похвастаться, что своими руками прикончил одного из потомков Марка Антония.
Я покорно заняла свое место. Главное — не вспоминать о Хармион. Бедняжка не выносила шума и многолюдных торжеств. Эта картина разбила бы ее сердце. Внизу, под нами, застыли мужчины, каждый из которых символизировал египетский город, захваченный Октавианом, или же реку, пересеченную римскими легионерами, вплоть до Евфрата и Рейна. Пожалуй, более всего Хармион опечалилась бы при виде скованных цепями женщин, совершенно нагих, если не считать табличек с названиями покоренных племен, висевших у них на груди.
Александр, как и я, обвел ужасную сцену глазами, потом повернулся ко мне и шепнул:

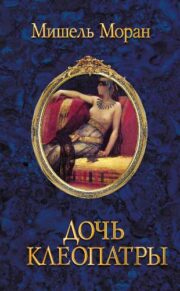
"Дочь Клеопатры" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дочь Клеопатры". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дочь Клеопатры" друзьям в соцсетях.