Помедлив, Октавия проговорила:
— Ходили разные слухи о пиршествах на реке…
— Верно, — искренне выпалил Александр. — У мамы с папой было свое общество. — «Собрание Неподражаемых в Жизни».
— Чем же оно занималось? — затаив дыхание, осведомилась Октавия.
— Пировало на кораблях, обсуждая вопросы литературы с великими философами со всего света.
— Потом его переименовали в «Орден Неразлучных в Смерти», — прибавила я. — После того, как отец проиграл сражение при Акции. Однако теперь все в прошлом… Как и наши мама с папой.
Вечерняя гостья чуть откинулась назад и недоверчиво смотрела то на меня, то на брата. Казалось, она никак не могла представить себе, что мы говорим об одном и том же мужчине.
— Ну и… много времени он проводил с вашей мамой?
У меня запылали щеки. Так вот в чем дело: Октавия до сих пор его любит.
— Да, — еле слышно сказал Александр.
— Значит, не слишком часто бывал со своими людьми? — обратилась она ко мне.
— Не слишком… — Я устыдилась и отвела глаза. — Вы рады, что его больше нет?
— Никогда никому не желала гибели, — произнесла Октавия. — Конечно, когда Антоний оставил меня, это было ужасно. О нашем разрыве узнал весь Рим.
Я попыталась представить, что ей пришлось пережить после того, как папа прилюдно ушел к другой. Мои сводные сестры, Антония с Тонией, даже и не успели его узнать. Они были очень маленькими, когда отец окончательно переселился в Александрию.
— Мой брат желал ему смерти, — призналась Октавия. — Но я… — Она запнулась, потом продолжила: — В Риме не отыскалось бы женщины, которая не любила бы Марка Антония.
— А теперь его ненавидят, — заметила я.
Сестра Цезаря встала с кушетки и нежно погладила мою щеку тыльной стороной ладони.
— Люди решили, что он позабыл свой народ, чтобы сделаться греком. Но это прошлое. Гораздо важнее — завтрашний день. Наберитесь мужества, и все в конце концов будет хорошо.
Когда она удалилась, мы с братом посмотрели друг на друга. Мерцающее пламя оставленного ею светильника бросало неверные блики на наши лица.
— Мама ни разу не приходила к нам перед сном, — произнес Александр.
— Она ведь была царицей, а не сестрой правителя.
— Думаешь, папа любил Октавию?
Ответить «нет» было бы жестоко, но эта женщина никогда не сравнилась бы с нашей матерью; я не могла представить себе, чтобы она мчалась на колеснице наперегонки с отцом по Канопской дороге или чтобы он подхватил победительницу на руки и начал кружить.
— Может, папу привлекала ее доброта? — предположила я.
Александр кивнул.
— У Марцелла такое же золотое сердце, правда? Между тем он, по-моему, первый красавец в Риме.
У меня округлились глаза.
— Послушай, ты, надеюсь, не Ганимед?[11] Братишка сердито вспыхнул.
— Нет, конечно!
Я продолжала смотреть на него, но Александр задул светильник, и в темноте мне расхотелось продолжать беседу.
Принесенные поутру одежды оскорбили нас до глубины души. Александр недоуменно уставился на льняной церемониальный передник, а я нервно мяла в руках платье из бус, гневно спрашивая:
— Римляне ведь не думают, будто мы в Египте так одеваемся?
Холмы за окном еще розовели в лучах рассвета, но, судя по долетавшему шуму, все обитатели виллы уже проснулись.
— Ну да, — без тени издевки ответила Галлия.
— Наши царицы носили такие платья тысячу лет назад. Сейчас в ходу шелковые хитоны!
— Но на египетских росписях и на статуях…
— Это делается нарочно, под старину, — терпеливо пояснил брат. — Я ни разу не наряжался в передник.
— Мне очень жаль, — промолвила Галлия, и ей нельзя было не поверить: в детстве галльской царевне тоже пришлось испытать это унижение на улицах Рима, — но такова воля Цезаря.
Взглянув на ее несчастное лицо, я не стала противиться, когда Галлия повела меня в купальню и помогла облачиться в платье. Однако стоило нам приблизиться к зеркалу, как к моему лицу прихлынула кровь. Бусы прикрывали только самое необходимое; с тем же успехом я могла появиться в городе полуголой.
Появилась Октавия — и всплеснула руками:
— Что на ней надето?
— Так велел Цезарь, — возмутилась Галлия.
— Девочку не повезут по улицам в этом виде, словно блудницу! — воскликнула ее госпожа и обратилась ко мне: — У тебя ведь была другая одежда?
— Шелковые туники и парики, — поспешила ответить я.
— Ты так наряжалась в Александрии?
— И еще красилась.
— Неси сюда все. — Октавия закатила глаза к потолку. — Уж лучше краска, чем это.
Под ее присмотром Галлия закрепила парик на моих волосах. Когда я показывала рабыне, как правильно провести сурьмой длинные черные линии от наружных уголков глаз, Октавия чуть нахмурилась. Галлию интересовало все до мельчайших подробностей: желто-красная хна для рук, моринговое масло для лица, кусочек пемзы для удаления лишних волосков у бровей…
— Ты еще слишком юна для таких вещей, — строго сказала она. — Сотрешь себе кожу до дыр.
— Против этого есть особый крем.
Я показала коробочку, содержимое которой Хармион втирала в мое лицо по утрам. Галлия принюхалась и передала ее госпоже.
— И что, все женщины этим пользуются? — тихо спросила Октавия. — Хна, парики?
— В торжественных случаях, — ответила я.
Она посмотрела на Галлию.
— Римлянки тоже подкрашивают веки малахитом, хозяйка, — сказала та. — Просто не так ярко.
Вернувшись в комнату из купальни, я так и прыснула. Брат нарядился в длинный передник и золотой воротник-ожерелье, а немес, золотисто-синий головной убор фараона, занял место жемчужной диадемы. Александр посмотрел на меня и сердито скрестил руки на груди.
— Значит, тебе позволили переодеться в тунику, а я должен выйти в этом?
— Цезарь хотел, чтобы я показалась на людях в платье из бус.
— Как танцовщица? — ахнул он.
— Или продажная женщина, — прибавила я по-парфянски.
Октавия вежливо кашлянула.
— Нам пора в атрий. — Она с беспокойством одернула свою столу. — Брат готовится совершить жертвоприношение. Затем от Сената начнется шествие… — И с надеждой прибавила: — С вами ничего дурного не случится.
— Вы поедете на плоту за спиной Цезаря, — пояснила Галлия. — Плебеи побоятся его задеть и не станут кидать камни.
— А что они станут кидать? — осмелел Александр.
Галлия повернулась к Октавии, но та решительно покачала головой:
— Ничего. Вы будете очень близко от Цезаря. Я позабочусь об этом.
Мы с братом взялись за руки. В атрии Октавиан и Ливия объясняли Марцеллу с Тиберием, где будут их места во время триумфа. Правда, племянник Цезаря слушал вполуха, обмениваясь улыбками с Юлией. Стоило нам войти, как разговор оборвался. Агриппа и Юба перестали полировать клинки.
— Клянусь фуриями, вот это парик! — воскликнул Марцелл, приближаясь ко мне.
Все обернулись, а Юлия так и впилась в меня взглядом, полным нескрываемой злобы. Надо быть с ней поосторожнее, решила я.
— Где платье из бус? — осведомилась Ливия.
Значит, вовсе не Цезарь, а она лично желала меня унизить. Никто не ответил, и Ливия продолжала наступать:
— Где платье?
Галлия вышла вперед, заслонив меня.
— С ним произошла одна неприятность. Кошка решила, что это новая игрушка…
— Наглая шлюха. Вон с глаз моих!
Галлия отступила, но на ее место встала Октавия.
— Ливия, платье пропало.
— Лжешь! Я знаю, вы взяли его…
— Ты обвиняешь во лжи сестру Цезаря? — гневно вмешался ее супруг.
Жена пристыженно потупилась.
— Прости меня, Октавиан.
— Ты оскорбила не меня, а мою сестру.
Под пристальными взглядами собравшихся Ливия повернулась к золовке, чтобы обиженно процедить:
— Мне очень жаль.
Октавия еле заметно кивнула. Она сказала правду. Платья действительно больше не было: одной из рабынь велели продать его на рыночной площади. Галлия просто исказила истину. Ливия уставилась на меня, и мне вдруг захотелось превратиться в невидимку. Она никогда не забудет этого унижения. А винить во всем будет меня. Меня — и Галлию.
— Где моя речь? — осведомился Октавиан.
Ливия выудила из рукава свиток. Цезарь схватил его, развернул, пробежал глазами и одобрительно кивнул:
— Хорошо.
По неловким движениям Октавиана я догадалась, что под его тогой надето что-то тяжелое — видимо, стальная кольчуга.
— Агриппа, Юба, вы помните, что во время речи нужно стоять не шелохнувшись и глядеть в оба?
— Я буду слева, а он — справа, — пообещал полководец. — Если кто-либо из сенаторов двинется в вашу сторону…
— …разрешаю тебе обнажить клинок. Мы — одна семья, — сурово проговорил он, поочередно глядя на Ливию, Октавию и Марцелла. — А члены семьи всегда горой друг за друга. Пусть целый Рим это знает. Плебеи взирают на Клавдиев-Юлиев, ожидая увидеть верность традициям, дух единения, мораль. Если же мы несчастны, как может быть счастлив какой-нибудь обжигатель кирпичей? Так что на людях дружно улыбаемся, даже Тиберий.
Тот намеренно скорчил противную мину.
Марцелл рассмеялся.
— Какая прелесть!
— Прости, не всем быть писаными красавцами! — огрызнулся Тиберий, но Цезарю было не до их перебранок.
— Довольно! Октавия, начинай.
Та потянулась к маленькому ларцу и достала сосуд с вином. Потом налила немного в неглубокую чашу напротив бюста Юлия Цезаря, и все нараспев произнесли: «Do ut des». «Даю, чтобы ты дал».
Повисла короткая тишина. Затем Октавиан, расправив плечи, объявил:
— Начинаем триумф.
Я думала, что Сенат окажется самым крупным зданием в Риме, настолько просторным, чтобы в мраморных чертогах мог разместиться каждый, кто когда-либо заседал в его стенах. При виде кирпично-бетонного сооружения, облицованного мраморными плитами внизу и накладными белыми блоками сверху, у меня вырвалось:

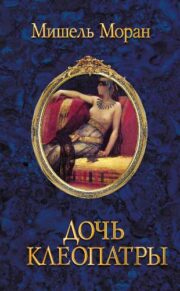
"Дочь Клеопатры" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дочь Клеопатры". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дочь Клеопатры" друзьям в соцсетях.