Весь урок мы готовились к контрольной, а после урока как-то было уже несерьезно снова раздувать историю с погибшим цветком. Чувствовалось, что биологичке очень хотелось об этом поговорить, тем более что останки бедного кактуса очень трагически выглядели в корзине для мусора, но она все-таки не стала. Думаю, опасалась, что мы пожалуемся завучу. А может, и сама уже пришла в чувство.
Зато в гардеробе разыгралось целое представление. Все такая же синюшная Долгушина подошла к Игорю и, хлюпая носом, жалобно сказала:
– Спасибо, Игорь… Я теперь для тебя… все, что хочешь…
– Брось, Галь, – отмахнулся от нее Александров, но Долгушина вдруг разрыдалась и упала ему на грудь.
И при всем честном народе Игорю пришлось ее успокаивать, гладить по тощему хвосту и говорить всякие слова. Вокруг, конечно, собралась целая толпа жаждущих зрелищ. Не только из нашего класса, но и из других, у которых тоже закончились уроки. Щеки Игоря покраснели, и даже лоб покрылся испариной, но он все же Гальку от себя не оттолкнул. Он осторожно посадил ее на стул у зеркала и быстро вышел из школы.
– Прямо греческая трагедия! – заключила Настька Шевченко, удобно расположившись на скамейке против школы, где все девчонки (и я в том числе), исключая, конечно, Долгушину, собрались обсудить данное происшествие.
– И, главное, совершенно непонятно, какое ему дело до какой-то синей Долгушки? – удивилась Наташка Погорельцева.
– А может, он в нее влюбился? – предположила еще одна не очень симпатичная девочка, Лена Иванова.
Я подумала, что Ивановой очень хотелось бы, чтобы такие замечательные ребята, как Игорь Александров, хоть иногда влюблялись в таких, как она, Долгушина и мы с Машкой Калашниковой. Конечно, было бы здорово, если бы Галька, которую пожалел Игорь, оторвалась от его груди, убрала руки от лица и все увидели, что она превратилась в красавицу. Но такое возможно только в сказках.
Разумеется, все наши девчонки долго смеялись над нелепым предположением Лены Ивановой о влюбленности Игоря в Галину. Они смеялись бы еще дольше и злее, если бы могли знать, о чем только что подумала я.
Дома я уже думала не о Долгушиной, а лишь об Игоре. Почему он это сделал? Почему взял на себя Галькину вину? Вот если бы он действительно был в нее влюблен, то это было бы понятно, а так… Быть влюбленным в Долгушину нельзя… Значит, Игорь Александров благороден, как настоящий рыцарь. Я уже завидовала Гальке. Почему не я сбросила этот несчастный кактус? Тогда это я могла бы рыдать на груди у Александрова, а он гладил бы своей рукой не долгушинский, а мой, тоже весьма тощий, хвост…
Я хотела закончить писать, потому что на часах уже 23.55, но вдруг ощутила, что думаю об Игоре совсем не так, как раньше. Даже не так, как вчера. Вчера он был для меня просто недоступным красавцем, который нравится мне так же, как и всем, так же, как, скажем, нравится какой-нибудь артист или модный певец. Сегодня слово «нравится» уже не выражало то, что я испытываю к Александрову. Неужели так влюбляются? Неужели я влюбилась? Какое это странное и необычное чувство! Я буду беречь его, потому что оно очень красиво.
19 сентября
Это чувство не только очень красиво. Оказывается, что его очень тяжело носить в себе. Я не говорю уже о том, что хочется в нем признаться Игорю. Хочется встать на какой-нибудь горе и кричать об этом всему свету. Но я думаю, «всему свету» вовсе не захочется слушать мое признание. Оно его рассмешит и раздосадует. У «всего света» полно других дел.
На следующий день после происшествия с кактусом Галя Долгушина пришла в школу с распущенными и завитыми волосами. Красивее она от этого не стала, но все догадались, для кого она это сделала. Я больше других понимала Галю. Если бы я только могла надеяться, что Игорь меня заметит, то я тоже могла бы и завиться, и накраситься до умопомрачения. Но я видела, что Александров не заметил ничего нового в Галином облике. Точно так же он не заметил бы и в моем.
Настька с Наташкой весь день потешались над Долгушиной. Настька предлагала ей сбросить на пол в кабинете биологии еще парочку горшков с цветами поэкзотичней или (что будет гораздо эффективней) сразу высадить окно в кабинете директора школы. Галя пылала щеками, девчонкам не отвечала, а на Игоря смотрела преданной собакой. Он этого не замечал.
А мое чувство к нему все растет и ширится. Оно уже заполнило меня всю и требует выхода. Все-таки я напишу письмо. В этом ничего плохого не будет. Я не стану Игорю навязываться. Мое письмо будет чем-то вроде Галиных завитых кудрей. А он может и не отреагировать на письмо так же, как не отреагировал на долгушинские ухищрения.
Но что же написать? Разве что те странные стихи, которые у меня почему-то стали рождаться. Он должен их понять. Он особенный человек.
Если я встану на вершину горы и крикну: «Люблю!»,
То никто не услышит, кроме тебя.
Ты тоже можешь сделать вид, что не слышишь,
Но это не сделает тебе чести.
Если я подойду к тебе сзади и закрою глаза руками —
Ты из всех узнаешь меня,
Потому что нельзя не узнать.
Но ты можешь сказать мне «Нет!»,
Никто не отнимет у тебя это право.
3 октября
Я уже две недели живу как в тумане, потому что ничего не вижу вокруг себя, кроме белых листов, на которых пишу письма Игорю. В них стихи и не стихи. В них признания и рассказы о том, как я живу. Вернее, как трудно мне жить без него.
Я никогда еще не существовала в таком напряжении, как сейчас, на таком пике эмоций. Мне кажется, что долго это выдержать невозможно. Я заболею и умру. Что, может быть, даже к лучшему.
Целых две недели каждый день я хожу к бабушке. Она не нарадуется на меня. Поит чаем, печет пироги и все время спрашивает:
– И завтра придешь?
Она меня любит, наверное, единственная во всем мире, и я не знаю, как теперь выйти из круга, который очертила вокруг Игоря. Я написала ему четырнадцать писем. Как только я напишу письмо, мне надо идти к бабушке. Как только я соберусь к бабушке, рука сама тянется к бумаге, чтобы написать ему письмо. И все эти две недели я ни разу не столкнулась с Игорем на лестнице. Почему? Что-то против меня?
На следующий день в школе после того, как опустила Александрову первое письмо, я боялась на него смотреть, но он не подал и виду, что получил мое послание. Я обрадовалась. Решила, что он не хочет объясняться при всех и, возможно, сам ответит письмом.
Дни идут и идут, а писем от него нет. Игорь на меня по-прежнему не смотрит. Я продолжаю писать. И с каждым письмом еще больше растет мое чувство к нему, хотя все время кажется, что больше уже невозможно.
Я не пишу это ничего не значащее детское слово «нравишься» – я пишу, что люблю. Люблю так, что еще немного, и меня оставят последние силы. Совсем недавно я считала, что любовь – не что иное, как эгоизм чистой воды, а теперь… Я уже точно знаю ответ на вопрос анкеты Шевченко, над которым когда-то посмеивалась: «Сможешь ли ты всем пожертвовать для друга?» Этот вопрос теперь как раз для меня! Я готова принести любую жертву! Я готова сто раз подряд отдать за него жизнь! Только он ни о чем не просит. Моя любовь – не эгоизм… Мне же ничего от Игоря не надо. Мне надо только любить.
Я люблю, и отступают моря, но никогда
не обрушатся цунами.
Их остановит сила моей любви!
Я люблю, и затихнут все сплетни и наговоры.
Не посмеет никто опорочить мою любовь!
Я люблю, и ты был бы счастлив со мною.
Мне жаль, что ты не видишь меня.
Но я люблю и буду ждать тебя вечно!
В конце концов, ты не сможешь пройти мимо!
Это было последним, что я написала ему. Неужели он все-таки сможет пройти мимо? Неужели мне придется идти к нему и признаваться, глядя глаза в глаза, как я когда-то обещала девчонкам? Я не могу больше жить в неизвестности! Я должна знать, почему он мне не отвечает. Значит, мне все-таки кое-что надо от него? Я запуталась в противоречивости собственных чувств и ощущений. Кто бы объяснил, что со мной происходит? Я ничего не понимаю, и мне все время хочется плакать, хотя я не из плакс.
21 октября
Не зря я постоянно жила в состоянии тревоги. Горько-соленая вода цунами все-таки рухнула с высоты десятиэтажного дома. К несчастью, я не захлебнулась ею. Я вынуждена жить дальше, хотя совсем не знаю, как.
Вчера я мирно делала уроки, а родители смотрели свой любимый сериал по телику, когда раздался звонок в дверь. Разумеется, я пошла открывать, потому что родителям не оторваться: пропустят, кто кого убил. На пороге стояла незнакомая женщина. Она очень внимательно посмотрела на меня и спросила:
– Катя? Максимова?
Глупо было бы отпираться, тем более что в тот момент я почему-то ничего дурного не ожидала. Я кивнула, а женщина спросила:
– Родители дома?
Я опять кивнула, а она снова спросила:
– Я могу поговорить с ними?
Я в третий раз кивнула, предложила ей пройти, крикнула маму и пошла продолжать решать задачу по физике. Я так была занята этой физикой, что даже и не думала прислушиваться, о чем идет речь в соседней комнате. Если бы я догадалась прислушаться, то, наверно, выпрыгнула бы в окно, и все сразу было бы кончено. Я решила задачу по физике и перешла к геометрии, когда мама строгим голосом позвала меня. Я пришла в комнату к родителям и сразу все поняла – на столе лежали мои письма. Наверное, все двадцать…
– Это ты писала? – спросила меня мама, лицо которой было цвета свеклы. Я поняла, что у нее поднялось давление.
– Ты же уже знаешь, что я… Почерк мой не могла не узнать, – ответила я.
– Откуда нам знать, какой у тебя почерк? – рявкнул отец, который был нехорошего зеленоватого цвета.
Я сообразила, что он говорит правду. Родители уже сто лет не заглядывали в мои тетради и не глядя подписывали дневник. Действительно, откуда им знать, какой у меня почерк.

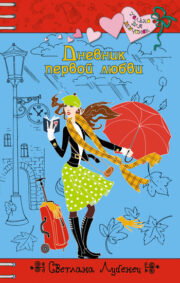
"Дневник первой любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дневник первой любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дневник первой любви" друзьям в соцсетях.